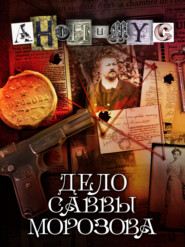По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бедная Лиза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Загорский посмотрел на него с легким упреком.
– «Мона Лиза дель Джоконда» – это картина великого итальянского художника Леонардо да Винчи.
– Длинное какое название, – поморщился Ганцзалин. – Китайцы не любят длинных слов. Лучше бы звать ее просто «бедная Лиза».
Действительный статский советник удивился: почему же бедная? Потому что, объяснил помощник, ее украли и до сих пор не нашли. Кстати, сколько она стоит?
– Судя по всему, изрядно, – отвечал Загорский, перелистывая страницу. – Вероятно, речь идет о миллионах франков. Во всяком случае, тому, кто найдет картину, сообщество друзей Лувра обещает 25 тысяч франков, а газета «л’Иллюстрасьон»[5 - L’Illustration – французский консервативно-патриотический еженедельный журнал, выходил с 1843 года.] – 40 тысяч.
– Всего, значит, выходит 65 тысяч франков, – быстро сосчитал Ганцзалин. – Больше двадцати тысяч, если считать на рубли. Неплохой куш. Может, нам заняться этим делом, вернуть Лувру украденный шедевр?
Загорский поморщился. В кои-то веки у них образовался отпуск, он хотел бы провести его спокойно, беззаботно переезжая из одного европейского города в другой, наслаждаясь плодами культуры и цивилизации, а не гоняясь за жуликами. Нет, воля ваша, но это совершенно лишнее: и без них найдутся люди, которые вернут Лувру «Джоконду».
– Но 65 тысяч на дороге не валяются, – настаивал китаец. – А потом, вы ведь все равно собирались в Париж…
Нестор Васильевич хотел что-то ответить, но на лицо его внезапно набежало облачко. Он увидел неподалеку спасенную им синьорину Манчини. Стоя рядом с карабинером, она темпераментно жестикулировала и тыкала пальчиком в сторону Загорского и Ганцзалина, что-то торопливо объясняя служителю закона.
– Проклятье, – озабоченно проговорил Загорский, – только этого нам не хватало. А все ты со своей варварской любовью.
– Что ей еще надо? – удивился китаец. Проследив направление взгляда господина, он увидел и девушку, и карабинера, который уже с самым решительным видом направлялся к ним. – Жива, здорова и никто ее не домогается.
– Наверняка она решила, что мы с тобой сообщники, – отвечал действительный статский советник.
– Сбежим? – деловито осведомился китаец.
Но Загорский отвечал, что, во-первых, Ганцзалин бежать не может, потому что подвернул ногу, а, во-вторых, бежать уже поздно. И действительно, карабинер был уже совсем рядом, и вид имел самый суровый.
– Добрый день, синьоры, – сказал он, подходя к столику и отдавая честь. – Позвольте узнать, кто вы, и что здесь делаете?
– Может, окунем его мордой в пасту? – по-русски предложил Ганцзалин, весело скаля зубы.
– Говорю тебе, уймись, ты не в китайской чайной, – негромко процедил Загорский, а затем любезно улыбнулся полицейскому: в чем дело, синьор офицер?
Синьор офицер, или, если уж быть совсем точным, капрал, с охотой объяснил, что сидящий рядом с ним господин преследовал вон ту юную синьорину, и не только преследовал, но даже, потеряв всякий стыд, напал на нее.
– Однако юная синьорина, вероятно, сказала вам, что я спас ее от домогательств этого господина, – заметил в ответ действительный статский советник.
Карабинер кивнул. Все так, но непонятно одно: почему спаситель и нападавший сидят теперь вместе и беседуют, как добрые друзья. У него есть основания полагать, что они в сговоре, а, значит, могут напасть еще на кого-нибудь.
– Это совершенно невозможно, – решительно отвечал Загорский. – Все дело в том, что я… гм… русский священник. Строго говоря, этот синьор не успел даже совершить ничего противозаконного. Да, он вел себя несколько по-дикарски, но насилия не применял. Он увлекся девушкой, и решил за ней поухаживать. На его родине в Китае это делается именно так – назойливо и бесцеремонно. Однако я побеседовал с ним, я устыдил его, я проповедал ему слово Божие, и теперь он окончательно порвал со своим греховным прошлым и даже собирается принять монашеский сан.
Ганцзалин, хоть и не понимал по-итальянски, однако уловил слово «монако»[6 - Monaco (ит.) – монах.] и истолковал его совершенно верно. Он скроил такую постную физиономию, что любой незаинтересованный наблюдатель немедленно решил бы, что это готовый священнослужитель, осталось только выстричь ему тонзуру и облачить его в рясу.
Физиономия эта, впрочем, не возымела на карабинера никакого действия. Он строгим голосом велел синьорам следовать за ним в участок для разбирательства и выяснения обстоятельств дела.
Загорский вздохнул, положил на столик деньги за кофе и поднялся со стула. Следом за ним поднялся и Ганцзалин. Спустя минуту они уже следовали в кильватере стража закона, который шествовал, чрезвычайно гордый тем, что ему удалось поймать сразу двух опасных иностранцев, один из которых к тому же – духовное лицо, а другой только еще собирается им стать. В некотором отдалении за ними шла синьорина Манчини, столь же бдительная, сколь и очаровательная, чье очарование, впрочем, несколько поблекло в глазах Ганцзалина после того, как она натравила на них карабинера.
Нестор Васильевич хмурился, время от времени на ходу выразительно поглядывая на своего верного помощника. В глазах его ясно читались слова: «Вот, полюбуйся, в какую безобразную историю мы попали благодаря твоей дикости». Желтая физиономия Ганцзалина, однако, выглядела совершенно безмятежной. «Ну, и попали, – как бы говорила она, – ну и подумаешь. Как будто это с нами в первый раз».
– Так что ты там говорил про вознаграждение за бедную Лизу? – неожиданно спросил Загорский.
– 65 тысяч франков, – с готовностью отвечал помощник.
– Да, это неплохо, – сдержанно кивнул Нестор Васильевич. – Не говоря уже о том, что расследование может выйти весьма интересным. К тому же, у меня в Париже действительно имеется одно небольшое дело…
При этих словах он как-то смущенно покосился на помощника. Ганцзалин двусмысленно ухмыльнулся.
– Ваша правда, пора сменить обстановку, – сказал он. – А то здешние макаронники-полицейские все равно не дадут нам продыху.
И он во весь рот оскалился, глядя на капрала, который, словно что-то почуяв, оглянулся назад и глядел теперь на него с крайним подозрением. Тут к слову стоит заметить, что есть люди, улыбка которых сразу вызывает расположение у окружающих, а есть – напротив, влечет за собой немедленные подозрения и даже испуг. К первому сорту, очевидно, относился Нестор Васильевич, ко второму – его верный помощник.
– Кстати, что мы будем делать с этим синьором в погонах? – полюбопытствовал Ганцзалин. – Он ведь не отпустит нас просто так.
Загорский пожал плечами.
– Разумеется, отпустит – он кажется мне здравым человеком.
– А если все-таки нет? – настаивал помощник.
Действительный статский советник поморщился.
– Если не отпустит, – сказал он, – тогда можешь делать с ним, что пожелаешь.
– В таком случае я откручу ему голову, а вы, как лицо духовное, прочтете над ним отходную, – плотоядно осклабился Ганцзалин.
– Аминь, – заключил Загорский.
* * *
Августовское солнце, все еще яркое, но уже нежаркое, лениво освещало дом номер 11 по бульвару Клиши. Это был район Парижа, где совершенно естественно соседствовали артистическая богема, веселые кварталы и базилика Сакре-Кёр[7 - Basilique du Sacrе-CCur (фр.) – базилика Святого сердца, католический храм в Париже, расположенный на вершине Монмартра.], от которой до знаменитого кабаре «Мулен Руж» самым медленным шагом и все время под гору было не больше километра. Такое соседство, кажется, никого не смущало, и когда в церкви чинно служили обедню, в «Мулен Руж» беспечно вскидывали ноги в канкане девушки, одетые вызывающе, полуодетые и даже неодетые вовсе.
Много лет живший в Париже русский художник Леон Бакст в шутку звал бульвар де Клиши «бульваром Не Греши». Однако устройство этого замечательного места было таково, что удержаться от грехопадения было крайне трудно, разве только юркнуть в переулки и обойти его по широкой дуге. Но и в этом случае гарантии не было, потому что так сильна была веселая радиация бульвара Клиши, что кокетство и разгул распространялись далеко за его пределы чуть ли не по всему Парижу. Супруги Кюри, близко имевшие дело с радиоактивностью, пожалуй, сочли бы такое высказывание недостаточно научным, но с фактами трудно спорить, пусть даже они и противоречат строгой науке физике.
Несмотря на близость Сакре-Кёр и изобилие девушек легкого поведения, здешние места осенял, конечно, не Дух святой и даже не дух разгула и разврата. Любой из живших на бульваре художников, поэтов и музыкантов мог поклясться, что здесь царил дух творчества, свидетелями чему были не только парижские праздные гуляки, но и многочисленные кафе и даже местный театр «Два осла».
– Это Клиши, так что ослов здесь гораздо больше, – говаривал, бывало, живший в доме номер одиннадцать Па?бло Дие?го Хосе? Франси?ско де Па?ула Хуа?н Непомусе?но Мари?я де лос Реме?диос Сиприа?но де ла Санти?сима Тринида?д Ма?ртир Патри?сио Руи?с-и-Пика?ссо или, попросту, Пабло Пикассо. – А впрочем, пусть будет два осла: не дело художника слишком уж углубляться в дебри арифметики…
Между нами говоря, углубляться в дебри арифметики Пикассо и не мог. И вовсе не потому, что был некомпетентен в этой деликатной области. Каждый уважающий себя художник должен знать арифметику, а иначе как он будет продавать свои бессмертные творения многочисленным буржуа, которые в искусстве не смыслят ни уха, ни рыла? И Пикассо, разумеется, тоже был в арифметике не последний человек, во всяком случае, сложение, вычитание, умножение и деление он постиг во всей полноте.
В дебри же арифметики он не имел возможности углубляться из-за своей чрезвычайной занятости – так, по крайней мере, должны были думать все его знакомые. В то время, как другие художники круглые сутки пили, бузили, занимались любовью и шокировали не в меру стыдливых обывателей, Пикассо с утра до ночи корпел над своими картинами, делая перерывы только на то, чтобы поесть, выпить, побузить, заняться любовью и между делом шокировать какого-нибудь особенно застенчивого обывателя.
Такая стратегия возымела нужный эффект: к тридцати годам Пикассо забыл о нищем прозябании в общежитии для бедных художников Бато-Лавуар и стал художником известным, пользующимся популярностью не только у французов, но и у иностранных ценителей живописи. Времена, когда он отдавал картину за тарелку супа в кафе, остались далеко в прошлом. Сейчас за приличные деньги покупались практически все его творения, начиная от голубого и розового периодов и заканчивая сегодняшними, кубистическими картинами. К слову сказать, кубизм – это было направление, которое изобрел лично Пикассо. Правда, официально считалось, что к этому приложил также руку и Жорж Брак, но мы-то, мсье-дам, мы-то с вами знаем правду и понимаем, в чью гениальную голову могла прийти столь поразительная идея.
Вот и сейчас Пабло, одетый в коричневые кюлоты, белую парусиновую рубашку и с босыми ногами, стоял перед недописанной картиной, которую хотел назвать «Человек с мандолиной». Окно в мастерскую было распахнуто, ветер задувал в комнату, через вырез рубашки холодя грудь и утишая горячку творчества.
Картина давалась ему нелегко, это был не тот случай, когда нужного эффекта можно было добиться несколькими точными ударами кистью. И дело, разумеется, было не в человеке и не в мандолине даже, дело было в том прорыве в запредельное, которое могла дать картина. Не слепое следование натуре, а исход в инобытие – вот чем должен был стать кубизм для подлинного художника…
В дверь позвонили. Пикассо поморщился: кто там еще? Весь Париж знает, что в это время он творит, а отрывать гения от творчества – святотатство похуже, чем переделать Нотр-дам-де-Пари в Мулен Руж. Запустите в храм танцовщиц – и этот грех Господь вам простит. Оторвите художника от холста – и будете прокляты во веки веков, и никакое чистилище не облегчит вашей участи.
– «Мона Лиза дель Джоконда» – это картина великого итальянского художника Леонардо да Винчи.
– Длинное какое название, – поморщился Ганцзалин. – Китайцы не любят длинных слов. Лучше бы звать ее просто «бедная Лиза».
Действительный статский советник удивился: почему же бедная? Потому что, объяснил помощник, ее украли и до сих пор не нашли. Кстати, сколько она стоит?
– Судя по всему, изрядно, – отвечал Загорский, перелистывая страницу. – Вероятно, речь идет о миллионах франков. Во всяком случае, тому, кто найдет картину, сообщество друзей Лувра обещает 25 тысяч франков, а газета «л’Иллюстрасьон»[5 - L’Illustration – французский консервативно-патриотический еженедельный журнал, выходил с 1843 года.] – 40 тысяч.
– Всего, значит, выходит 65 тысяч франков, – быстро сосчитал Ганцзалин. – Больше двадцати тысяч, если считать на рубли. Неплохой куш. Может, нам заняться этим делом, вернуть Лувру украденный шедевр?
Загорский поморщился. В кои-то веки у них образовался отпуск, он хотел бы провести его спокойно, беззаботно переезжая из одного европейского города в другой, наслаждаясь плодами культуры и цивилизации, а не гоняясь за жуликами. Нет, воля ваша, но это совершенно лишнее: и без них найдутся люди, которые вернут Лувру «Джоконду».
– Но 65 тысяч на дороге не валяются, – настаивал китаец. – А потом, вы ведь все равно собирались в Париж…
Нестор Васильевич хотел что-то ответить, но на лицо его внезапно набежало облачко. Он увидел неподалеку спасенную им синьорину Манчини. Стоя рядом с карабинером, она темпераментно жестикулировала и тыкала пальчиком в сторону Загорского и Ганцзалина, что-то торопливо объясняя служителю закона.
– Проклятье, – озабоченно проговорил Загорский, – только этого нам не хватало. А все ты со своей варварской любовью.
– Что ей еще надо? – удивился китаец. Проследив направление взгляда господина, он увидел и девушку, и карабинера, который уже с самым решительным видом направлялся к ним. – Жива, здорова и никто ее не домогается.
– Наверняка она решила, что мы с тобой сообщники, – отвечал действительный статский советник.
– Сбежим? – деловито осведомился китаец.
Но Загорский отвечал, что, во-первых, Ганцзалин бежать не может, потому что подвернул ногу, а, во-вторых, бежать уже поздно. И действительно, карабинер был уже совсем рядом, и вид имел самый суровый.
– Добрый день, синьоры, – сказал он, подходя к столику и отдавая честь. – Позвольте узнать, кто вы, и что здесь делаете?
– Может, окунем его мордой в пасту? – по-русски предложил Ганцзалин, весело скаля зубы.
– Говорю тебе, уймись, ты не в китайской чайной, – негромко процедил Загорский, а затем любезно улыбнулся полицейскому: в чем дело, синьор офицер?
Синьор офицер, или, если уж быть совсем точным, капрал, с охотой объяснил, что сидящий рядом с ним господин преследовал вон ту юную синьорину, и не только преследовал, но даже, потеряв всякий стыд, напал на нее.
– Однако юная синьорина, вероятно, сказала вам, что я спас ее от домогательств этого господина, – заметил в ответ действительный статский советник.
Карабинер кивнул. Все так, но непонятно одно: почему спаситель и нападавший сидят теперь вместе и беседуют, как добрые друзья. У него есть основания полагать, что они в сговоре, а, значит, могут напасть еще на кого-нибудь.
– Это совершенно невозможно, – решительно отвечал Загорский. – Все дело в том, что я… гм… русский священник. Строго говоря, этот синьор не успел даже совершить ничего противозаконного. Да, он вел себя несколько по-дикарски, но насилия не применял. Он увлекся девушкой, и решил за ней поухаживать. На его родине в Китае это делается именно так – назойливо и бесцеремонно. Однако я побеседовал с ним, я устыдил его, я проповедал ему слово Божие, и теперь он окончательно порвал со своим греховным прошлым и даже собирается принять монашеский сан.
Ганцзалин, хоть и не понимал по-итальянски, однако уловил слово «монако»[6 - Monaco (ит.) – монах.] и истолковал его совершенно верно. Он скроил такую постную физиономию, что любой незаинтересованный наблюдатель немедленно решил бы, что это готовый священнослужитель, осталось только выстричь ему тонзуру и облачить его в рясу.
Физиономия эта, впрочем, не возымела на карабинера никакого действия. Он строгим голосом велел синьорам следовать за ним в участок для разбирательства и выяснения обстоятельств дела.
Загорский вздохнул, положил на столик деньги за кофе и поднялся со стула. Следом за ним поднялся и Ганцзалин. Спустя минуту они уже следовали в кильватере стража закона, который шествовал, чрезвычайно гордый тем, что ему удалось поймать сразу двух опасных иностранцев, один из которых к тому же – духовное лицо, а другой только еще собирается им стать. В некотором отдалении за ними шла синьорина Манчини, столь же бдительная, сколь и очаровательная, чье очарование, впрочем, несколько поблекло в глазах Ганцзалина после того, как она натравила на них карабинера.
Нестор Васильевич хмурился, время от времени на ходу выразительно поглядывая на своего верного помощника. В глазах его ясно читались слова: «Вот, полюбуйся, в какую безобразную историю мы попали благодаря твоей дикости». Желтая физиономия Ганцзалина, однако, выглядела совершенно безмятежной. «Ну, и попали, – как бы говорила она, – ну и подумаешь. Как будто это с нами в первый раз».
– Так что ты там говорил про вознаграждение за бедную Лизу? – неожиданно спросил Загорский.
– 65 тысяч франков, – с готовностью отвечал помощник.
– Да, это неплохо, – сдержанно кивнул Нестор Васильевич. – Не говоря уже о том, что расследование может выйти весьма интересным. К тому же, у меня в Париже действительно имеется одно небольшое дело…
При этих словах он как-то смущенно покосился на помощника. Ганцзалин двусмысленно ухмыльнулся.
– Ваша правда, пора сменить обстановку, – сказал он. – А то здешние макаронники-полицейские все равно не дадут нам продыху.
И он во весь рот оскалился, глядя на капрала, который, словно что-то почуяв, оглянулся назад и глядел теперь на него с крайним подозрением. Тут к слову стоит заметить, что есть люди, улыбка которых сразу вызывает расположение у окружающих, а есть – напротив, влечет за собой немедленные подозрения и даже испуг. К первому сорту, очевидно, относился Нестор Васильевич, ко второму – его верный помощник.
– Кстати, что мы будем делать с этим синьором в погонах? – полюбопытствовал Ганцзалин. – Он ведь не отпустит нас просто так.
Загорский пожал плечами.
– Разумеется, отпустит – он кажется мне здравым человеком.
– А если все-таки нет? – настаивал помощник.
Действительный статский советник поморщился.
– Если не отпустит, – сказал он, – тогда можешь делать с ним, что пожелаешь.
– В таком случае я откручу ему голову, а вы, как лицо духовное, прочтете над ним отходную, – плотоядно осклабился Ганцзалин.
– Аминь, – заключил Загорский.
* * *
Августовское солнце, все еще яркое, но уже нежаркое, лениво освещало дом номер 11 по бульвару Клиши. Это был район Парижа, где совершенно естественно соседствовали артистическая богема, веселые кварталы и базилика Сакре-Кёр[7 - Basilique du Sacrе-CCur (фр.) – базилика Святого сердца, католический храм в Париже, расположенный на вершине Монмартра.], от которой до знаменитого кабаре «Мулен Руж» самым медленным шагом и все время под гору было не больше километра. Такое соседство, кажется, никого не смущало, и когда в церкви чинно служили обедню, в «Мулен Руж» беспечно вскидывали ноги в канкане девушки, одетые вызывающе, полуодетые и даже неодетые вовсе.
Много лет живший в Париже русский художник Леон Бакст в шутку звал бульвар де Клиши «бульваром Не Греши». Однако устройство этого замечательного места было таково, что удержаться от грехопадения было крайне трудно, разве только юркнуть в переулки и обойти его по широкой дуге. Но и в этом случае гарантии не было, потому что так сильна была веселая радиация бульвара Клиши, что кокетство и разгул распространялись далеко за его пределы чуть ли не по всему Парижу. Супруги Кюри, близко имевшие дело с радиоактивностью, пожалуй, сочли бы такое высказывание недостаточно научным, но с фактами трудно спорить, пусть даже они и противоречат строгой науке физике.
Несмотря на близость Сакре-Кёр и изобилие девушек легкого поведения, здешние места осенял, конечно, не Дух святой и даже не дух разгула и разврата. Любой из живших на бульваре художников, поэтов и музыкантов мог поклясться, что здесь царил дух творчества, свидетелями чему были не только парижские праздные гуляки, но и многочисленные кафе и даже местный театр «Два осла».
– Это Клиши, так что ослов здесь гораздо больше, – говаривал, бывало, живший в доме номер одиннадцать Па?бло Дие?го Хосе? Франси?ско де Па?ула Хуа?н Непомусе?но Мари?я де лос Реме?диос Сиприа?но де ла Санти?сима Тринида?д Ма?ртир Патри?сио Руи?с-и-Пика?ссо или, попросту, Пабло Пикассо. – А впрочем, пусть будет два осла: не дело художника слишком уж углубляться в дебри арифметики…
Между нами говоря, углубляться в дебри арифметики Пикассо и не мог. И вовсе не потому, что был некомпетентен в этой деликатной области. Каждый уважающий себя художник должен знать арифметику, а иначе как он будет продавать свои бессмертные творения многочисленным буржуа, которые в искусстве не смыслят ни уха, ни рыла? И Пикассо, разумеется, тоже был в арифметике не последний человек, во всяком случае, сложение, вычитание, умножение и деление он постиг во всей полноте.
В дебри же арифметики он не имел возможности углубляться из-за своей чрезвычайной занятости – так, по крайней мере, должны были думать все его знакомые. В то время, как другие художники круглые сутки пили, бузили, занимались любовью и шокировали не в меру стыдливых обывателей, Пикассо с утра до ночи корпел над своими картинами, делая перерывы только на то, чтобы поесть, выпить, побузить, заняться любовью и между делом шокировать какого-нибудь особенно застенчивого обывателя.
Такая стратегия возымела нужный эффект: к тридцати годам Пикассо забыл о нищем прозябании в общежитии для бедных художников Бато-Лавуар и стал художником известным, пользующимся популярностью не только у французов, но и у иностранных ценителей живописи. Времена, когда он отдавал картину за тарелку супа в кафе, остались далеко в прошлом. Сейчас за приличные деньги покупались практически все его творения, начиная от голубого и розового периодов и заканчивая сегодняшними, кубистическими картинами. К слову сказать, кубизм – это было направление, которое изобрел лично Пикассо. Правда, официально считалось, что к этому приложил также руку и Жорж Брак, но мы-то, мсье-дам, мы-то с вами знаем правду и понимаем, в чью гениальную голову могла прийти столь поразительная идея.
Вот и сейчас Пабло, одетый в коричневые кюлоты, белую парусиновую рубашку и с босыми ногами, стоял перед недописанной картиной, которую хотел назвать «Человек с мандолиной». Окно в мастерскую было распахнуто, ветер задувал в комнату, через вырез рубашки холодя грудь и утишая горячку творчества.
Картина давалась ему нелегко, это был не тот случай, когда нужного эффекта можно было добиться несколькими точными ударами кистью. И дело, разумеется, было не в человеке и не в мандолине даже, дело было в том прорыве в запредельное, которое могла дать картина. Не слепое следование натуре, а исход в инобытие – вот чем должен был стать кубизм для подлинного художника…
В дверь позвонили. Пикассо поморщился: кто там еще? Весь Париж знает, что в это время он творит, а отрывать гения от творчества – святотатство похуже, чем переделать Нотр-дам-де-Пари в Мулен Руж. Запустите в храм танцовщиц – и этот грех Господь вам простит. Оторвите художника от холста – и будете прокляты во веки веков, и никакое чистилище не облегчит вашей участи.