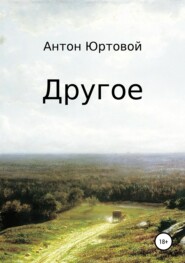По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
– Аой!
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ему какой-то жлоб
размазал глаз.
Мы после виделись
всего тремя
зрачками.
Существеннее то,
которое
мы
сами.
М-да… чьи-то мнения…
Пусть, как должно бывает,
хоть чёрная, хоть серая
меж нами пробегает.
Не леденит судьба
во всём привычном.
Знакомое – чуждо.
Чужое —
безразлично.
– Аой!
Имитация
Поэт в России больше не поэт.
Свою строку, ещё в душе лелея,
он сбросит на сомнительный совет
в себя же, искушённого в затеях, —
как перед светом
выглядеть
прилично.
Не зацепив за чуждую мозоль,
не разделив беду чужую лично,
уже с рожденья он освоил роль
раба тоски, раба непрекословий.
Не зная сам себя, себе не нужен,
не меряясь ни с кем,
держась тупых условий,
спеша не вверх и делаясь всё уже.
Чужие чувства выдав за свои,
горазд он сымитировать страданье.
Молчит, когда у мозга бьётся крик
и боль торчит из подновлённой раны,
и до расстрела, не его, – лишь миг,
и по-над бездной жгут
свободный стих
и тот горит мучительно и странно…
Узнав о вечных проявленьях страсти,
им изумившись, пишет про любовь,
по-древнему деля её на части,
на то, где «кровь» и где «опять»
и «вновь».
А нет, так, убаюканный
елеем,
с трибуны о согласье пробубнит —
не с тем, что заупрямиться посмело,
а с тем, где разум
лихом перекрыт,
где ночь, придя на смену дню, остыла
и, злобой век сумбурный теребя,
с своих подпорок долго не сходила
и кутерьмой грозила,
новый день кляня.
В мечте беспламенной, угодливой,
нечистой
полощатся пространства миражей.
Он, непоэт, раздумывает
мглисто
и, мстя эпохе,
всё ж бредёт за ней.
Покажется отменным патриотом,
зайдётся чёрствой песнею иль гимном.
От пустоты всторчит перед киотом,
осанну вознесёт перед крестом
могильным.
Не верит ничему; себе помочь не хочет.
Живёт едой, ворчбой и суетой.
Над вымыслом не плачет, а хохочет,
бесчувствен как ноябрь перед зимой.
Поближе к стойлу подтащив корыто,
жуёт своё, на рифму наступив,
от всех ветров как будто бы укрытый,
забыв, что предал всё и что
пока что жив…
– Аой!
Собою радовать ей любо
размазал глаз.
Мы после виделись
всего тремя
зрачками.
Существеннее то,
которое
мы
сами.
М-да… чьи-то мнения…
Пусть, как должно бывает,
хоть чёрная, хоть серая
меж нами пробегает.
Не леденит судьба
во всём привычном.
Знакомое – чуждо.
Чужое —
безразлично.
– Аой!
Имитация
Поэт в России больше не поэт.
Свою строку, ещё в душе лелея,
он сбросит на сомнительный совет
в себя же, искушённого в затеях, —
как перед светом
выглядеть
прилично.
Не зацепив за чуждую мозоль,
не разделив беду чужую лично,
уже с рожденья он освоил роль
раба тоски, раба непрекословий.
Не зная сам себя, себе не нужен,
не меряясь ни с кем,
держась тупых условий,
спеша не вверх и делаясь всё уже.
Чужие чувства выдав за свои,
горазд он сымитировать страданье.
Молчит, когда у мозга бьётся крик
и боль торчит из подновлённой раны,
и до расстрела, не его, – лишь миг,
и по-над бездной жгут
свободный стих
и тот горит мучительно и странно…
Узнав о вечных проявленьях страсти,
им изумившись, пишет про любовь,
по-древнему деля её на части,
на то, где «кровь» и где «опять»
и «вновь».
А нет, так, убаюканный
елеем,
с трибуны о согласье пробубнит —
не с тем, что заупрямиться посмело,
а с тем, где разум
лихом перекрыт,
где ночь, придя на смену дню, остыла
и, злобой век сумбурный теребя,
с своих подпорок долго не сходила
и кутерьмой грозила,
новый день кляня.
В мечте беспламенной, угодливой,
нечистой
полощатся пространства миражей.
Он, непоэт, раздумывает
мглисто
и, мстя эпохе,
всё ж бредёт за ней.
Покажется отменным патриотом,
зайдётся чёрствой песнею иль гимном.
От пустоты всторчит перед киотом,
осанну вознесёт перед крестом
могильным.
Не верит ничему; себе помочь не хочет.
Живёт едой, ворчбой и суетой.
Над вымыслом не плачет, а хохочет,
бесчувствен как ноябрь перед зимой.
Поближе к стойлу подтащив корыто,
жуёт своё, на рифму наступив,
от всех ветров как будто бы укрытый,
забыв, что предал всё и что
пока что жив…
– Аой!
Собою радовать ей любо