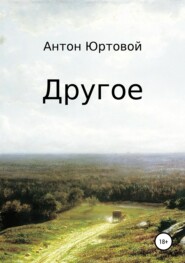По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А что как в упадке отыскался бы стержень, который бы годился для удержания вполне ценного?
Взять да и допустить это средство, раз оно к нам так настойчиво напрашивается и так угрожающе быстро уже приблизилось.
Я теперь, пожалуй, просто из интереса и желания хоть что-нибудь предугадать впереди, дал бы согласие на такой удивительный эксперимент. Слишком много потерь видится мне в текущем, и чем далее, тем они резче взывают к безусловному горькому осознанию… Кажется, тут нужно бы учесть и то, что ведь хуже может и не быть. По крайней мере, там, где и пошлое, наоборотное, обманное успело уже вырасти и дойти до такого своего предела, от которого идти ему дальше некуда, и оно остановилось…
Керес только жертва лёгкой студенческой неосмотрительности. Ему ничего не стоило отказаться от моего предложения. Да он уже чуть и не сделал этого. Приняв же моё предложение, он был готов продолжить уступать как обстоятельствам, так и себе. Наверное, делать такой вывод – жестоко. Потому что, сделав его, надо ставить моральную преграду любому заимствованию, связано ли оно с учебным процессом или с уяснением творческого художественного опыта, как достояния всеобщего, не отгороженного ни от кого и ничем.
Далее: что плохого в копировании?
Эстетике невозможно пребывать в одной, замкнутой форме. Изящное художественное произведение нуждается в том, чтобы его увидели, услышали, прочитали многие, или же – оно должно исполняться во множестве. Никому ведь не приходит в голову затаптывать ногами или жечь репродукции картин и рисунков, выпускаемые из печати иногда миллионами экземпляров. Неосуждаемо тиражирование фильмов, книг, многократное повторение спектаклей, записей концертов.
Почему не пойти также и тиражированию в той сфере, в отношении которой издавна говорят, что по-настоящему восхищает и ценится в ней лишь оригинал, а копия с него, наоборот, воспринимается как что-то постное и дурное? Насколько это оправданно?
Иную копию даже лучшие профессиональные эксперты не способны отличить от оригинала. Что в данном случае за дело приобретателю, ставшему собственником того или другого? Есть ли на самом деле тот критерий, по которому потребитель вынуждался бы предпочесть из них лишь одно и непременно первичное?
Эти вопросы да не покажутся праздными. Люди стремятся украсить свою жизнь, и современная цивилизация открывает для этого широчайшие возможности.
Привычными стали красивые интерьеры, машины, издания, строения, доступные всем художественные поделки, нательные украшения. В то же время что-то удерживает от повторённого. Что?
Мода, устремляясь к собственной выделенности и распахивая свои объятия перед поклонниками, тем не менее изо всех своих сил бунтует, когда её обязывают раствориться в массовом, двигаться к потребителю с обычного унылого конвейера.
Словно в какой-то ловушке оказались оборотистые промышленники, предлагающие на продажу искусственный изумруд. Хотя по виду он совершенно схож с природным да и составом и в акте воспроизведения он по существу лишь повторяет его, следует за ним, любителей украшений и перекупщиков по-прежнему устраивает только природный.
Подобных несоответствий великое множество.
Занимаясь копированием, Керес, безусловно, поступал дурно. Однако по-настоящему дурно только в том смысле, что не он был создателем картины, он не имел прав-юре на чужое творение и выдавал копии без согласия автора, уже как свои оригинальные произведения. Если и можно упрекнуть его в чём-то ином, то такие упрёки можно смело рассматривать и как придирки. Профессионал улучшил образец, в одинаковом виде распродал то, что сумел улучшить. В данном случае уместно, может быть, говорить о Кересе даже как о реставраторе. А что? Я забыл отметить, что Ольга Васильевна, рассказывая мне о судебном процессе, подчёркивала: никто из истцов ни словом не обмолвился о недостаточной, низкой художественной ценности приобретённых копий.
Надо понять, что приобретавшие, если бы им не стали известны моральные угловатости совершённых сделок, то они и во всю их жизнь вряд ли бы возникли со своими претензиями. Подделки их устраивали в существенном и самом главном. Владея ими, они бы довольствовались или даже гордились ими.
Бесспорно: на их месте почти любой вёл бы себя так же. Это вполне естественно проистекает из того, что имеющий некий эквивалент богатства хотя и может коситься на другого, имеющего то же самое, но только не из-за единицы измерения, которая или одинакова для обоих, или с лёгкостью конвертируется.
Когда есть много отменных копий с отменного, достойного образца, – разве плохо от того, что в разы умножалось бы число людей, располагающих возможностью прямого доступа к ним, то есть одновременно и – к самому образцу?
Как традиционно выглядит процесс пользования им, произведением только в одном экземпляре? Его надо уметь уберечь от порчи уже при хранении, а дальше, в ходе перевозок и демонстраций, защитить от грабителей, мошенников; при естественном износе – отреставрировать. С чередой этих манипуляций связаны огромные опасения лишиться вещи, утратить её, и только из-за того, чтобы не допустить потери, нужны колоссальные издержки, часто непредвиденные.
В этом свете даже вопрос о двусмысленности вещного или денежного вознаграждения поддельщику не должен бы, кажется, приобретать особой, осуждающей окраски.
Сколь бы ни была большой полученная им сумма, она будет во много раз перевешена доходами от демонстрации, доходами, которым суждено бесследно раствориться в совокупной востребованности и быть уже фактом восприятия или, если угодно, употребления эстетического – в его эфемерном, неосязаемом, отвлечённом виде. Совокупное восприятие, то есть потреблённая эстетика – это как раз та желанная величина, в которой выражается итог всей работы – и мастера, и копирайтера. Всё, что сюда не относится, только показатель уровня попутного, побочного, дополнительного обслуживания потребителя.
Полагаю, ясно, что я здесь говорю только о добротной подделке.
Есть и другой важный мотив отказа от традиции. Это когда собственник один, и он не желает обременяться никакими демонстрациями. Держит образец при себе, и в этом находит своеобразное удовлетворение. Или забаву. Или умысел. Или тайну – как в случае с Греем[17 - Главный герой романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».] и с его портретным изображением. В редких случаях, теша своё сермяжное самолюбие, такой затворник покажет приобретённое кому-нибудь из друзей, родственников, начальников корпораций или учреждений. Когда скончается, то же предпочтут наследники. Денежный эквивалент, разумеется, в любой момент готов ожить и куда-то двинуться. Но вовсе не исключение, что образец опять попадёт в руки владельца с замкнутым интересом к искусству и сермяжным самолюбием. То есть – в очередной раз переместится под глухой замок.
А с эстетикой – что? С её эквивалентом?
Какова им цена, и в самом ли деле образец, оригинал чего-нибудь стоит, если он остаётся взаперти? Ведь вовсе не те уже времена: взамен ему в несчётных тиражах гуляют по свету печатные репродукции, по качеству порой просто отменные. Как тут ни повернуть, а единственный образец, когда он хоть по каким причинам отодвинут от широкого потребителя, – это нонсенс. О каком бы шедевре ни шла речь.
При том, что частные коллекционеры всегда начеку и готовы хоть за какие деньги удовлетворять свои интересы лишь как приобретатели, а в затратах на физическую сохранность образцов, как правило, до неприличия скряжничают, удастся ли хотя бы и очень толковой реставрацией поддерживать нужное состояние того, что может после них остаться, скажем, – полотен-оригиналов Рафаэля, Веласкеса, Рубенса, Винчи, – в течение ближайших десяти или хотя бы пяти, трёх тысяч лет? Ответ очевиден. Перед воздействием вечности не устоять даже изображениям на керамике, статуям из камня и сверхпрочных сплавов.
Можно к задаче сохранности привлечь науку, передовые технологии. И всё равно: неизбежно придёт срок – перестанут помогать и они.
Если говорить исключительно о полотнах, о произведениях живописи, то их размещённость даже в открытом космосе – предприятие сомнительное. Там понадобилось бы их оберегать от метеоритов, лучевого ветра. Спуск на землю и первая же перевозка и демонстрация обернулись бы заметным их разрушением. Особенно тревожна участь гигантских, монументальных комплексов. Таких как египетские пирамиды, роскошные современные и древние дворцы, храмы. Уберечь их от естественной гибели невозможно. Построить их точные копии, значит, идти навстречу абсурду. А ведь это объекты всемировой культуры, всеобщее достояние.
И как тут быть?
При всей наружной и внутренней открытости таких объектов и самом широком развитии туризма увидеть и осмотреть их натурально, не экранно или по репродукциям и фотоснимкам, подавляющей части жителей земли никогда не удастся… Можно показывать оригиналы гигантских изображений и композиций, таская их по планете иллюзионом, что, кажется, и сегодня уже под силу такому маэстро как Копперфилд[18 - Всемирно известный современный иллюзионист Дэвид Копперфилд, США.]. Но всякий иллюзион, хотя и есть искусство, но – искусство обмана, эффектного обмана, притом лишённого образности – в её специфичном, художественном значении. И мы бы довольствовались только суррогатами, каковыми, если быть откровенными и смотреть на вещи реально, представляются те же виды с экрана, репродукции и фотоснимки…
Но если к условиям бесчувственной и беспощадной вечности и надёжное сохранение, и удобная отдельным людям и поколениям обозреваемость образцов никак не приложимы, то явно по-другому обстоит дело с их копированием. Не говорю, что здесь уже найден выход. Хотя в том значении, каким его можно представить сейчас, он всё-таки есть; по своей новизне он, правда, ещё какой-то почти диковинный, холодный, обеспокаивающий, и всё же…
Чтобы устранить у потребителей врождённое недоверие к суррогатам, а, коль говорить прямо, – сбить шелуху со скованного нелепым догматом традиционного предложения, спроса и купли-продажи, человеку, работающему над образом, достаточно создать одну или несколько одинаковых копий с него. Одинаковых абсолютно. Такое было бы чудом. Для мастера здесь тупик. Более, может быть, морального свойства: где это видано, чтобы кто-то создавал художественную вещь и сразу умножал её.
А вот путём клонирования создать абсолютно одинаковое или максимально неразличимое, пожалуй, и не чудо, и не аморально. Умные роботы могут сконтролировать похожесть экземпляров на уровне атомов или ещё точнее.
Мастеру, будь он уже в настоящее время согласен втянуть себя в эту чуждую, испепеляющую эмоции промышленную стихию, пока пришлось бы только призадуматься и заглушить досаду в себе: образ он ещё волен сам предлагать и разрабатывать, но, чтобы придать ему изящную форму, был бы вынужден манипулировать аппаратами.
А в дальнейшем оригинальные технологические открытия, наверняка, могли бы освободить его и от самого главного – от работы над образом и даже от инициативы к такой работе…
Перед необходимостью перехода к творчеству при помощи роботов любого, кто создаёт художественные ценности и стремится быть честным перед собой и миром, должна охватывать болезненная, цепенящая дрожь. Но сами люди, творцы прекрасного, неостановимо и очень усердно трудятся над тем, чтобы как можно ближе придвинуться к пугающей их отдалённости.
Им не позавидуешь.
Попадая под изощрённые выплески официальной пропаганды и авторитетных мнений, на странный, подданнический лад понимая задачу приобщения народов к разнообразным искусствам, они уже в большинстве истратились на второстепенное, на то, где образному, а, значит, по-настоящему художественному и изящному, места отводится всё меньше и меньше.
В тысячах, если не в миллионах торговых лавок, сбывающих произведения изобразительного искусства, давно стало тесно от изобилия предметов художественного творчества. С полотнами в рамках соседствуют мелкая пластика, статуэтки, чеканка, да чего только нет. Из-за недостатка места изделия размещают на полу, прямо под ноги покупателям, не заботясь ни о сохранности, ни об уважении к сотворившим это многообразие. И разве речь только об изделиях изобразительного ряда?
Переполненные запасники – обычное явление в музеях, библиотеках, салонах, театрах, студиях. От сообщений о запасных, годами не выставляемых потребителям образцах и коллекциях, а также поступающих в хранилища многочисленных новых произведениях всё больше разбухают интернетские сайты и блоги.
Число поделок быстро увеличивается в связи с развитием и усовершенствованием художественного образования. Не только академического, но и пониже, вплоть до начального. Его всё больше ориентируют на окупаемость, когда труд живописца или мастера графики в целом рассматривается не как творчество, а всего лишь частью поставленного на поток сервиса. Многие специальные учебные заведения уже насплошь перевели свои программы на обучение молодёжи в угоду кем-то запланированного спроса на будущие безликие поточные изделия, по значимости, как вещи художественные, обычно равные тем, каких уже более чем достаточно в действующих торговых и рекламно-выставочных залах.
С горечью приходится указывать здесь на то, что такие залы посещаются потребителями всё более неохотно, очень часто они вовсе безлюдны. Но и это не всё.
Открываются разного рода шарлатанские курсы и семинары, где, как правило, за плату берутся обучать желающих рисованию, художественной графике или даже масляной живописи – всего за несколько дней, а то и в течение одного занятия.
Как тут не будет прибавляться поделок!
Спрос на такую продукцию обречён падать в геометрической прогрессии к её возрастающему объёму. Люди, потребители не хотят иметь дела с аляповатостями, с лубочностью, с толстыми наложениями лака уже поверх изображения и на рамках, с примитивными сюжетными решениями, с бесконечными повторами тематики. Содержание перенасыщено влиянием патриотизма и шовинизма, религиозных легенд и канонов, антиглобализма – в виде искусственных углублений в этногенез. Творческие находки редки и отнюдь не так чтобы очень оригинальны. Когда такое наблюдается под воздействием нарастающего предложения, неизбежен кризис. Учреждениям, и частным лицам приобретённого становится более чем достаточно, и никто не намерен обременять себя лишним, о чём здесь уже сказано выше и необходимо будет коснуться ещё.
Также всё труднее устанавливать и использовать новые творческие направления, освежающую стилистику и технологию исполнения. Уже довольно часто не наступает хорошей отдачи в замыслах, реализуемых с помощью импрессий и экспрессий. Это – в замыслах более-менее талантливых, а, значит, и оригинальных. О других и говорить нечего.
Здесь игра светом и красками хотя и превращена в виртуозное и в некотором смысле таинственное действие, когда, как например, написанная по методике Мельникова картина открывается для рассмотрения не вблизи, когда она невидима и «слепа», а – лишь с некоторого расстояния, с отдалённости, – однако разрешение образа и в этом или подобных случаях остаётся на уровне уже давно и хорошо освоенного мастерами прошлого.
Вещью, произведением в таком виде бывает легко удивить простаков, но ими не дано по-настоящему взволновать нашу недоверчивую, насторожённую чувственность. Её ведь уловками не проведёшь.
Именно уловку иногда выдают за что-то центровое, которое будто бы следует считать важным секретом удачи и достойного качества, а затем и – популярности. Разумеется, ничего при этом не объясняют, имеют уловку в виду, говорят о ней, и всё. Наверное, полагают, что так сильнее щекочет. Наивность, но, бывает, сходит за правду. Так, у романиста Коэльо в одной из его книг[19 - Пауло Коэльо. «Одиннадцать минут».] художник Харт удачлив и востребован чуть ли не с того дня, когда он впервые занялся живописанием, а было ему в то время, как сообщает писатель, что-то в пределах двадцати.
К двадцати девяти он со всех сторон обложен заказами на картины, имеет завидный материальный достаток, вхож на самые верхи, ни от кого не зависим, может себе многое позволить, одна за другой устраиваются выставки его работ.
Харт увлечён проституткой, рисует её и говорит ей, что его в ней заманивает исходящий от неё свет.