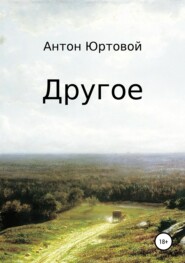По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ту пору ведь ещё совсем горячим был эпизод с поимкой Фёдора. Сам художник не открылся бы ни за что. Это не имело смысла. А наша с ним встреча явно могла уже быть выслеженной и расцениваться неординарной, так что, как знать, не навредил ли бы я своим приходом к нему.
Я здесь имею в виду всё ту же тайну с пистолетом и её возможное разоблачение, а, значит, и – более грозные обвинения для художника. Определённо, его бы упрятали в лагерь и там домучили. Как осуждённый за незаконное хранение оружия, а при определённых стараниях энкавэдэшников – и за вменённое ему сфальсифицированное применение этого оружия да ещё и в период войны он в любом случае не дождался бы послаблений с отсидкой даже многие годы спустя, при амнистии репрессированных.
Я, разумеется, не мог не испытывать досады и огорчений от того, что вместе с общей, уже описанной передрягой, доставшейся на долю мне и Веналию, от меня ускользало ещё одно обстоятельство. Оно касалось той части работ Веналия, которую он передал сотоварищам по работе на выкосе. Как-то так выходило, что у меня в то время вообще не оставалось возможности хотя бы поинтересоваться их судьбой.
Судя по всему, они, видимо-таки, изымались энкавэдэшниками при допросах Веналия и свидетелей. Часть могла быть неизъятой. Но это лишь предположения.
Единственно, когда я мог бы знать тут хоть что-нибудь, так это во время нашей последней встречи с бригадиром. Но, как я уже говорил, она имела место лишь год спустя после главных событий того моего злосчастного лета и я был так смят и обескуражен всем предыдущим до неё и теми сведениями, какие имел от него, что помнить и расспрашивать его ещё и об этом было, наверное, выше моего тогдашнего эмоционального состояния.
Сожалею, что так произошло, хотя и не могу сказать, что бы дали мне тогда те ускользнувшие от меня сведения, навсегда оставшиеся непроницаемыми и нераскрытыми…
Как хранитель тайн, я могу с чистой совестью оглядываться на уже такое далёкое прошлое. Но, конечно, мне очень жаль, что ими, этими тайнами и движением вокруг них так или иначе заслонилось всё, что уже много позже мне было в высшей степени любопытно знать о Веналии. Скажу вполне откровенно, как сам себе: я бы не мог не проявить более пристального интереса к личности коногона, когда, на протяжении десятилетий не имея ни одной встречи с ним и совершенно забыв о нём, я случайно стал очевидцем его похорон и уже при этом скорбном и навсегда оскорбившем память о нём событии был заинтригован и очарован его картиной, почти в точности воспроизводившей моё видение облога, но не походившей ни на что создававшееся художником прежде.
Не откажу себе в удовольствии ещё раз коснуться оригинальной эстетики этого лучшего, на мой взгляд, Кондратова полотна, виденного мною и в копии автора, и уже в переписи племянником.
Заодно позволю себе здесь особо остановиться на той, как я считаю, самой сложной части моего рассказа, на том повествовательном содержании, каким я пытался объединить очень разные и по отдалённости во времени, и по фактурной насыщенности события и воззрения. Эти всего лишь попутные, вольные и в целом дилетантские ремарки, с которыми я абсолютно ни на что не могу претендовать, полагаю, позволят мне быть точнее в суждениях о судьбах искусства и вообще всего, что имеет отношение к художественной культуре, – предмету, который небезразличен мне и в котором с давних пор люди находят возвышенное и славное. Такие, в частности, люди, какими были Веналий и Керес.
Покончив с этим, я уже вплотную смогу перейти к заключительному сюжету рассказа.
Не кто иной как племянник, имея талант и обогатив его старанием, способен был выйти на тот уровень восприятия и воспроизведения в художественной форме жизненного материала, какой удался его дяде. И даже намного превзойти этот уровень. Казалось бы, чего не хватало! Да, масса препятствий возникла у Кереса на творческом пути. Но многие из них он провоцировал сам. Был шаток и недостаточно смел, дал запутать себя в стилизациях. И в результате канули в небытие, пропали – и его талант, и его старание.
Несколько иначе вышло у дяди: в неотчётливом устремлении к идеалу долго зрело и как-то всё же вызрело в нём совершенно для него необычное, сравнимое с предыдущим неизящной, примитивной отделкой, но – не по сути. Яркое, освежающее преображение для самого Веналия могло быть неожиданным, и он даже мог не понимать, в какую новую сферу шагнул.
Так нередко случается: в занятиях, избираемых душой и служащих ей самой эффективной опорой в её выражении, непрофессионалы, дилетанты посрамляют своими удачами профессионалов, но в большинстве так и остаются дилетантами.
Веналий копировал свою картину с молодками и красноармейцем, и это вполне может говорить о том, что преображение, возникшее в нём, было лишь одноразовым, единственным. Большего, другого не оказалось. Но и в таком виде оно символично: его проявлению не могли воспрепятствовать никакие приёмы удушения личности автора. Чего невозможно сказать о творчестве Кереса.
Но даже при всём этом – что же, однако, сумел оставить после себя художник-любитель?
Полотна, развезённые уже не только по Европе, но и подальше от неё, изготовлены другим человеком и без авторского согласия. Они широко известны, и не переводятся их перекупщики. До того, что изготовитель – вор, уже никому нет дела. Даже напротив, купле-продаже этот момент придаёт излишней пикантности и в результате ещё больше подогревает востребованность.
Когда из моего рассказа теперь узнается, что в своё время и вор пробовал себя в аналогичном сюжете, а идею заимствовал у меня, то, не исключено, полотна просто будут с руками рвать.
И что приобретатели получат здесь от искусства?
Совершенно ясно: мир художественного и его ценностей, став площадкой стяжания, меркантильности, уже буквально взвинчен ими. Его всё гуще раскрашивают пошлостью, извращениями, обманом. За полотнами и рисунками в оригинале хотя и можно ещё охотиться, выставляясь импозантно и даже нередко демонстрируя отменный вкус, но легко удовлетворяются и подложным.
Которое, кстати, часто небесталантливо!
Ползучий параллельный, боковой процесс!
Нормой становится не осуждать подлогов, принимать их в соотношениях как с оригиналами-шедеврами, так и с поделками, откровенной, эпатирующей халтурой.
Ажиотаж только с копиями «Чёрного квадрата» или «Подсолнухов»[16 - Одна из самых известных картин голландского художника второй половины XIX века Винсента ван Гога.] чего стоит. Возникнув на исходе эпох, когда создавались эти произведения, он нисколько не стих, а, наоборот, усилился. Уже не раздумывая, за подобные копии дают миллионы. И готовы дать больше. Как и в случае с Кересом, сворованное предлагают в открытую, не таясь. К чему это должно приводить, если копии самого различного свойства, иначе говоря – со многих оригинальных произведений многих авторов начнут расползаться по миру уже косяками? В разных местах из них можно будет легко составить многокилометровые экспозиции-дубли, и масса людей, падких на пошлое и приперченное, не прочь осматривать их и шумно похваляться причащением к ним…
…Я уходил из дома, где жил Керес, и странные тяжёлые мысли одолевали меня.
Я прямо-таки был озадачен: из-за чего Ольга Васильевна проявила полное безразличие к моему сообщению об эскизе первой Кересовой дипломной работы. Был один из таковых и у неё? Тогда безразличие тем более неуместно. Взяла бы да и предложила поглядеть. Нет, не то. Эскизы, один или даже несколько, могли быть; но уже в других руках, то есть они – проданы. Копия с находившегося у меня ей, конечно, не лишняя. Только вот то, что сам этот эскиз так и оставался у меня, указывало: торопиться не надо. Я выгляжу и участником, и свидетелем произошедшей драмы. И, как на чём угодно, что к этой драме прилаживается, на мне можно заработать. Но позже, когда-нибудь, когда будет ко времени.
Предположение, что дело обстоит именно так, я тщательно обдумывал, пока рассматривал фотографии в альбоме. И пришёл к выводу: раз тут был особый интерес у вдовы, то примерно такой же пусть будет и у меня. Разумеется, не для торга. Я не стану спрашивать у неё о неоконченном письме Кереса.
Оно, как и что-либо другое из его архива, должно быть, ну, хотя бы размером в абзац, в одну строку.
Слишком хорошо я знал этого человека. Он мог о чём-нибудь не говорить, не распространяться, молчать, в крайнем случае ответить уклончиво, но раз уж не кому иному как мне он сказал, что письмо пишется, то, значит, он непременно писал его. В свете скандала с тиражированием дядиного полотна текст мог выполнять подталкивающую или, наоборот, тормозящую функцию. А чем лучше он этому соответствовал, тем он должен быть обширнее, содержательнее. Со слов Ольги Васильевны хотя и выходило, что Керес написал почти или совсем ничего, но я уже не склонен был этому верить.
Содержание письма казалось мне в высшей степени важным. Обладая ценностью, как товар, оно также становилось бы существенным дополнением к тому, что Ольга Васильевна рассказала мне, а я – ей. В том нехорошем смысле, когда составляющая коммерции проникала бы уже в самую последнюю нишу бедовых судеб и Кереса, и Кондрата. И мы оба – я и вдова Кереса – уже открыто и как о самых обыкновенных вещах об этом бы говорили. Вопрос каждую минуту готов был слететь у меня с языка, но я всё-таки удержался и даже при самом расставании с Ольгой Васильевной, уже прощаясь с нею, не задал его.
Где-то здесь же и в то же время я вспоминал и сразу торопился упрятывать в себе другой вопрос – о письме к Кересу от меня. Послании, которое уже нельзя было считать простым запросом. Ведь оно ставило моральную точку надо всей драмой, захватившей моего бывшего старого друга, и оно, как об этом говорила та же Ольга Васильевна, сильнее, чем что-либо другое, ломало его. Было крайне любопытно узнать от неё, хранил ли его Керес до конца или, может быть, порвал сразу и выбросил. Или сжёг. Если же ни то, ни другое, то – где оно теперь? Могла ли бы вдова показать его и сказать, зачем хранит?
Из того, что вертелось в моей голове на этот счёт, я не рискнул выдать себя ни единым словом. Зачем нужно было это делать? Ясно, что если письмо не уничтожено адресатом, то оно остаётся у вдовы, его прямой наследницы. А то, что в беседе со мной она даже не заикнулась о нём сама, могло говорить о наихудшем: что оно ушло от неё как товар. Как вещь особого, отборного значения, и, стало быть, – немалой ценности. Даже когда бы оно оказалось ещё при ней и я бы мог увидеть его, суть оставалась та же. Уйти в другие руки теперь или позже – велика ли разница? Это, кстати, касалось не только моего последнего письма Кересу, но и других, прежних, немногих моих посланий ему, в которых содержались приметы наших с ним отношений и своеобразный след в сторону произошедшей с ним угрюмой истории. Где всё это теперь?
Неужто и мои строчки или даже отдельные слова могут превратиться в предметы срамного мелкого торга и в ещё большее очернение Кереса? Я уже чётко представлял себе механику сбыта принадлежавших ему вещей, и мне оставалось только размышлять по аналогии. И стыдиться – как за себя, за то, что роюсь в чужом комоде, так, понятно, и за вдову.
Другого объяснения, почему я промолчал и в этой теме, у меня нет.
С той поры не утихает во мне глухое чувство сожаления и тревоги из-за моей какой-то роковой сопричастности к оборотной, обратной стороне искусства, к его изъянам. Не в том отношении, что я тут сам выступаю прямым виновником, как непосредственно сотворивший какую-нибудь подлость – ему, искусству, в ущерб. Я уходил из дома, бывшего Кересовым, с ощущением, что я тот человек, который через другого, вежливого и вполне как будто добропорядочного человека постиг нескончаемую бесчувственную холодность в обращении с искусством.
Оказывается, она, эта мертвящая ипостась, ему всюду сопутствует и всегда пригибает и нивелирует его.
Во всей огромности мне открылась порочность перемешивания искусства с деньгами.
Мысль о том, что в дальнейшем я, может быть, научусь мириться с этим, всё чаще давила мне мозг, рыхлила сознание. Изъяны в искусстве так же должны быть естественны, как и во всём вокруг? В том числе те изъяны, что привнесены куплей-продажей? Тогда что я могу находить в нём, в его, так сказать, неизвращённом, идеальном состоянии, если таковое, как утверждается, всегда желательно и всегда предпочтительно устремляться только к нему?
В своей жизни я даже не пробовал заниматься живописанием или графикой. Не чувствовал потребности в этом. Но во всяком, кто хотя бы в малости умел проявить себя в этих искусствах, я готов был видеть людей особенного интеллектуального склада – творцов собственного духа. Проникаясь уважением к ним, я входил в трансцендентный, расплывчатый, изменчивый и постоянно растворяющийся мир художественной эстетики, где распахнутым настежь образам отведено высшее значение. В этом мире я ощущал себя достаточно комфортно, как человек, сам пожелавший целиком отдать себя во власть его завораживающей свободы.
А что – в конце?
Что должно стать приобретением для меня?
Ведь, как и многие тысячи, нет: миллионы людей, находясь посреди накопленных образцов искусства и лжеискусства, я по-своему впитывал и впитал в себя часть их волшебной содержательности, рассчитывая, что эта прибавка должна поднимать меня над самим собой, облагораживать мою чувственность и мою ответственность перед своими поступками, быть мне отнюдь не в огорчение, а непременно в удовольствие, в радость и в сладость.
Выходило ли так? Не преобладало ли тут усреднённое, обывательское и притом излишне усердное блуждание в облаках?
Не мираж ли это?
Как далеко в прошлое отодвинулись события, касавшиеся Кереса и Веналия!
Как сильно они трогали меня благодатным, скромным, радугоцветным возвышением над скучной, бестолковой обыденностью и как беспощадно огорчали немощной, болезненной апофеозикой!
И разве я мог совсем отстраниться от них, забыть их? Перестать размышлять о них?
До настоящей минуты я всё яснее ощущаю их присутствие во мне и рядом со мной, их непрерывность и недоконченность. Не потому это так, что дело всего лишь во мне самом. Ведь я такой же, как другие, кто любит и боготворит искусство. И я не могу не знать и не отдавать отчёта в том, насколько неостановим и губителен тот самый, параллельный, боковой процесс в нём – процесс деградации и упадка.
Многими средствами он теперь ещё и сильно расшевелен и подбодрён. Находятся тьмы людей, не только не желающих видеть в нём некую убивающую, утапливающую, утаптывающую крайность, но и встающих в защиту ему, дают ему приглаженные, убаюкивающие, а то и бесстыдные истолкования, и даже солидные учёные не брезгают участвовать в этой отупляющей сумрачной вакханалии. С сознанием делания полезной работы пишутся исследования и диссертации, и наоборотное, сомнительное проникает уже в сами образы искусства, в их плоть, в их жилы, портит их кровотоки.
Здравый ум, обычные представления оказываются порой полностью смяты и смешаны. Тёмная энергия перелома хребта всё нарастает. Слышится пугающий характерный хруст. И уже далеко не отдельные люди полагают за лучшее смириться перед перспективой слома также и самих себя. Воистину прав был прозаик Астафьев, говоривший, что сколько книг ни пиши, люди от этого лучше и радостнее не становятся. Это он о силе слова говорил, силе, уже давно ставшей сомнительной.
А разве не относимо это впрямую и к изобразительной ветви искусства и культуры, к другим ветвям?