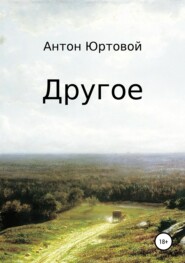По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Успеешь накряхтеться. Это ты здесь рисуешь?
– Так себе. Забавляюсь.
– На этой фотографии – ты? – ему близко к глазам поднесли карточку.
– Я.
– Значит, забавляешься! Видал гуся? – обратился к напарнику бессобачник, выражая удалой сарказм и чувство полнейшей вседозволенности. – А ну-ка, тащи сюда свою забаву. Где она у тебя?
– Неположенного ничего нет, – сказал Веналий, перемнувшись ногами и слегка разведя руки. Он явно не понимал приказания в его прямом, буквальном смысле. В этот момент с луга, заметив сцену с верховыми, сюда опасливо подходили другие заготовщики. Они старались держаться подальше от собаки.
– Правильно делаете, что собираетесь, – энкавэдэшники приглашали их. – Тут звеньевой позабавляться хочет. И мы с ним. Глядишь, и ещё кто захочет.
– Ну так давай, – говоривший про гуся опять обращался к Веналию.
– Нет неположенного, я же сказал.
– Он сказал! А мы проверим. Парторг тут?
– Я! – вперёд выступил низенький, полный, неуклюжий, коренастый мужчина с выпуклым скуластым лицом. Я раньше несколько раз нечаянно попадался ему на глаза, и как-то он даже влепил мне по лбу: чего, дескать, под ногами путаешься, тут и без тебя хватает хлопот.
– Просим.
– Подойти бы к палатке.
– Подойдём.
Кони с собакой и люди подвинулись. Верховые уже спрыгнули на землю. Не выпуская из рук поводий, они с отработанной осторожностью мягко ступали по направлению, указанному парторгом. Пригнувшись, я поплёлся вслед, и, когда все остановились, притаился за ними сзади.
– Давай!
Парторг откинул входной полог и ступил вовнутрь. Через минуту он вышел, придерживая в руках листы и картины на подрамниках.
– Там ещё кисти и…
– Отдай вот ему! – говоривший про гуся указал на напарника. – Идём! – он ткнул захребетника в плечо.
Всунувшись в палатку, оба там о чём-то поговорили. Наконец выбрались. Был вытащен продолговатый кусок ветхого брезента, служивший укрытием, кисти, краски, жестяные баночки из-под консервов – для воды, ветошь.
Всё вместе – и картины, и принадлежности – свалили на брезент. Взяв его за края, один из опричников потащил его волоком на зады палаток. Передвинулись туда и все за ним.
Тяжело и с вызовом поглядывая на работяг, энкавэдэшники подняли всё то, что за время страды создал здесь Веналий, поразглядывали, покривились, хохотнули: какая, мол, ерунда, мазня. Чиркнули по коробке спичкой, поднесли огонёк к бумагам. Те вспыхнули, сворачиваясь в углах. Пламя как будто нехотя, медленно, сыростно охватывало всю стопку; потрескивая горели планки, холщёвая ткань.
Невысоко, вязко поднялся черноватый дым. От смешения огня с красками и ветошью расползалась и застревала в ноздрях и в лёгких будоражливая противная вонь.
– Вот вам и забава! А, – звеньевой?
– Вы за это ответите, – с натугой, но чётко выдавил из себя Веналий. Ритуал сожжения, казалось, превратил его в неподвижный, окаменелый предмет. Нельзя было даже представить, что творилось у него внутри. – Отве-ти-те! По всей строгости!
– Чего нам отвечать-то? Ничего ведь не было! Тут пыль одна! Отвечать! – осклабившись, проорал Гусь, угрожающе бегая тупым воспалённым взглядом по лицам стоявших заготовщиков. – Так? – Носком сапога он подбросил в огонь ещё не успевшие догореть остатки брезентовки. – Пыль! Тебе понятно, звеньевой? Она – твоя, тебе, стало, и отвечать за неё… – Энкавэдэшник ставил голос, издевательски отчеканиваясь на ударениях. Заготовщики зловеще-отстранённо молчали. Будто их оглушили.
Ни слова больше не сказал и Веналий.
Лёгкий ветерок медленно потрагивал свежий золистый слой и тут же стихал, упрятывая в нём уродливую значимость только что содеянного. Ярко светило и начинало жечь покидавшее утро солнце. В его лучах безоблачное, раскрашенное голубизной небо приобретало настоящую околополуденную расцветку: более насыщенной, до синевы, становилась его неоглядная, бездонная верхняя часть, а по всей округлости горизонта, где купол, отыскивая себе опору, как бы со знанием дела старательно упирался в края земли, голубизна, всё более впадавшая в дремоту, расплывалась, тяжелела, тускнела, приобретала сонливый, белесоватый оттенок, указывая на скорое приближение поры заслуженного покойного отдыха и для могучего прозрачного купола, и для всего, что под ним.
Какой ровной, простой, обыденной была эта неостановимая полезная работа светила, в каждое новое мгновение творившего глубокую, проникновенную чувственность буквально во всём вокруг! И каким тяжёлым, горьким, неестественным было теперь здесь тепло от затухавшего мерзостного кострища, где тонкий слой золы торопливо проседал всё ниже к земле.
Еле заметно вздрагивая, серый зольный слой казался живой шкурой на плоской спине какой-то отвратительной, неповоротливой и ненасытной пакостной твари, делавшей последние усилия, чтобы поскорее исчезнуть после очередной злобной вылазки из своей преисподни. В воздухе над пепелищем озабоченно проносились птицы, таскавшие прокорм для своих птенцов. В непредсказуемых ломаных движениях разноцветно и прохладно вспыхивали парусами крылышек луговые бабочки. Оживлённо переговариваясь и ни на что другое, кроме как на самих себя, не обращая внимания, в разных местах трещали и как-то подсвистывали неунывающие кузнечики; гудели оводы и слепни; будто куда-то стартуя, шумно сшибались в оргазмах крупные и мелкие мухи. Душные травяные и сенные запахи смещали представление об окружающем, задавливали бунтующее сознание, обездвиживали мысли. Даже собачье рыканье вздёргивалось не сплошь, а отрывочно и намного тише, будто замедляя время. Угадывая прибывших новых жеребцов, с луга донеслось бесстыдное зовущее ржание успевших устать на работах кобылиц.
Обычный день бесстрастно ликующего света и бесстрастной жизни, унижений, проклятий и смутной опустошительной грусти, продолжавший долгую предыдущую серию таких же окаянных, беспутных дней…
Исчерпавшее себя кострище наводило на меня гнетущую, обессиливающую тоску. Ошарашенный, я думал о том, что в пепел превратились и первые в моей жизни, ещё не дописанные художником изображения с меня, и что это не какой-то истуманенный и растянутый временем сон, а реальное и притом достаточно короткое жуткое происшествие, окончание всему, в чём состоял и выражался мой мир до настоящей минуты. Боль физическая дополнялась восприятием крайней моральной оскорблённости. Словно утолщением от запотелой, грязной верёвки где-то вплотную к горлу примащивалась и начинала душить мою плоть необъятная железистая обида. Слёзы текли у меня по щекам, и я не мог унять их.
В акте надругательства надо мной и над Веналием это, однако, было ещё не всё.
– Подойди теперь вот сюда и стань, – приказал, обращаясь к Веналию, Гусь. Он повёл рукой: – Вот сюда. Чтобы виднее было всем.
Веналий переступил несколько шагов и остановился на указанное место: лицом к заготовщикам, по другую сторону истлевшего кострища.
– Так. Всем видно? Снимай рубаху!
Обречённый вид художника поразил меня. Лицом он был бледен и, казалось, потерял способность думать. В позе и движениях, которые он предпринял, снимая рубаху, сквозило полное безразличие и какое-то извращённое спокойствие. Он как будто и догадывался, что теперь будет, и одновременно как будто прогонял от себя всякое беспокойство. Смотрел в землю и не поднимал глаз. Делайте, мол, что хотите.
Гусь отдал поводок уздечки напарнику и подступился к художнику. Протянул руку, чтобы взяться за крестик.
– Не трожь, – как-то почти прошипел Веналий. – Не трожь! – повторил он уже громко, почти проорал. – Не тобой подвешено!!!
– Так, – злорадно осклабился энкавэдэшник и, изловчась, ухватился-таки за крестик, дёрнул и сорвал его. – Вот. Все видят? – Он удовлетворённо поднял подвязанную на заношенном шнурке вещицу цвета тусклого алюминия, подержал ее перед всеми и, размахнувшись, бросил её в сторону ближайшего участка свежей молодой травы, успевшей быстро подняться на месте скошенной. В это же время раздался резкий шлёпающий звук: это Веналий изо всего маху влепил пощёчину зарвавшемуся опричнику. Влепил и стал было одевать рубаху, но тот выхватил её у него и, взявшись за щёку и искривившись, дёргающимся и каким-то опасливым кивком показал напарнику-поводырю на своего обидчика.
Истончённым концом плётки, ровно так, чтобы от плеча Веналия он, конец, перемахнулся и как можно резче усёк сзади, поперёк спины, собачник, словно показывая, какой он мастер своего ремесла, один за другим дважды с оттягом прошёлся по бунтарю. Гулко и страшно взвыла, вспрыгнула, рванулась к жертве натренированная собака.
А звеньевой словно замер. Ни вскрика, ни тревоги в лице. То же, как и в начале, безразличие и спокойствие. Было видно, что он знает, как будут опускаться на него новые обжигающие выхлесты, но готов к ним и готов принять их сколько их ни будет, пусть хоть забьют до смерти. Или даже собакой…
Так он стоял некоторое время – по-прежнему лицом к собравшимся, и поза его не менялась.
Солнце прицельно грело ему в спину, и я представил тогда, как из открывшихся рубцов по его спине потекли вниз капли тёплой, распаренной зноем, крови, как они соединяются в неровные, ползущие дальше, к штанине, полоски, частью уже не удерживающиеся на коже, затекающие под ремешок, а к потёкам тут же заторопились вездесущие оводы и мухи, и теперь я мгновенно соединял эти вызывающие тошноту почти как не мои ощущения с моими собственными, обострившими и мою боль, которая до этого как бы уже понемногу забывалась.
– Хватит ему пока, – Гусь прервал старание палача. – Добавим после…
Вроде как наступала концовка…
– Эй ты! – услыхал я окрик энкавэдэшника-поводыря. Он заметил меня и уже быстро и грозно подступал ко мне, продолжая держать за поводья обоих коней, к одному из которых, к своему, оставался прикреплённым поводок с мотавшейся на нём псиной. – Ну, мало ему! – и не успел я даже сдвинуться с места, как он, добавляя мне отчаяния и скованности, опять с полного размаха полосонул плёткой по моей горевшей болью спине. И затем, не давая мне опомниться, ещё и ещё, с каждым разом – больнее. – Марш отсюда!
Бросившись бежать, я уже только неосознаваемо улавливал сзади неясный и глухой, словно из-под земли, ропот оставшихся стоять у пепелища, запуганных экзекуцией работяг. Видимо, их всё же прорвало. Я едва различал очередной громкий выброс удушливого собачьего лая. В голове не оставалось ничего, кроме панического ожидания: вот-вот пёс вгрызётся мне в голые пятки, свалит, перехватит пастью тонкую шею… Не помню, как я, изнемогший, достиг густого кустарника выше по склону, уже далеко от палаток, чтобы там спрятаться.
В беспамятстве я пролежал под его тенью часов, кажется, пять.
События, свидетелем которых я стал, как в некоем особом, полном срамных загадок действии совершенно бесталанного спектакля-фэнтэзи, приоткрывали теперь для меня их неторопливую, размытую, бессвязную и болезненную суть, умертвлявшую разум.