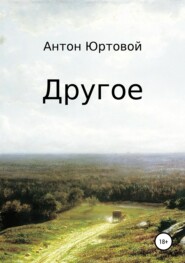По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миражи искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Точно так же он мог вести себя и в другой обстановке, на своей шахте и в шахтном посёлке, где вряд ли бы кто, кроме разве такого случайно встреченного им неопытного мальца, как я, желал выслушивать его замысловатые объяснения.
Теперь я понимаю: это были узконаправленные честные мысли вслух, необходимые для поддержки увлечения, выбранного с любовью и питаемого любовью, а условия для них появлялись редко, может быть, очень редко.
Для Веналия такие мысли могли значить многое: где-то через них ему вдруг открылось бы то недостающее и очень ему нужное, долго остававшееся неуловимым, которое никак не отыскивалось, а только в нём он мог бы найти наилучшую опору своему увлечению. Возможно, искомое находилось где-то близко, но от этого его отсутствие, как факт, не становилось менее огорчительным, и прорыва всё не наступало, так что уровень творчества был по-прежнему невысоким, чего и сам Веналий не отрицал, и если всё-таки оно в состоянии было удовлетворять спросу, то всего лишь непритязательному, так себе, где – в порядке вещей – художественное ценится лишь за свою неоспоримую наглядность и то – не всегда.
В ту суровую пору идеологического примитивизма наглядное признавалось не иначе как в соотношении с чем-то возвышенным, взятым от лозунга или директивной установки, и мало кто даже из художников-профессионалов не отдавал себе отчёта в том, что всё выпадавшее из этого ложного ряда должно быть помещено в рамки подозрительности или уж сразу и – гласного осуждения.
В картинах Веналия, которые я видел на выкосе, ничего возвышенного не содержалось. Наоборот, это были слишком приземлённые и слишком натуральные вещи, с неподнятой или неуверенно поднятой сутью изображаемого. Мой исхудалый облик, наверное, позволял художнику быть ближе в неясном постижении натуры, но, не имея достаточных знаний о способах этого постижения, он тогда практически так и оставался не умеющим выйти к оригинальным решениям. И, естественно, это не могло не задевать его самолюбия или даже не мучить его.
С упрощённым художественным восприятием и отображением жизни и бытия, ощутимо посрамлявшим его, он должен был особенно болезненно относиться и к своему отчуждению в среде окружавших его людей, которое он вроде как сам для себя и выстраивал.
Я здесь опять указываю на тот проходной эпизод с его третированием при начале работ, в сезон, когда мы с ним познакомились; третирование даже в такой плоской форме ему, человеку тёртому и знающему себе цену в обычной работе за кусок хлеба и вдобавок основательно захваченному стихией искусства, не могло не быть оскорбляющим и не приносить боли.
Думаю, тут не обходилось и без отчуждаемости в её официальной оболочке, а также и в оболочке общественной – когда независимое общественное подчинено идеологии и выражает официоз. Скажем, той или иной организации нужен художник-оформитель, ему не обязательна высокая квалификация, но если его знают как несторонника фальшивых агитационных лозунгов, то ему нечего рассчитывать на приглашение поработать или на выполнение отдельного заказа. И в глазах любого, кто представляет, например, сообщество профессиональных художников, если и он угодил в подчинение официозу, человек, отверженный по признаку идеологии, также сразу становится несвоим. Когда всё это происходит, бедолага может позволить себе остаться самим собой, но – ни с чем, если говорить о карьерном успехе. И когда тут ещё примешивается уязвлённое самолюбие, дело может дойти до обиды на всех и вся…
Много позже, далеко за пределами моего детства, мне о Веналии открылось немало такого, что указывало как раз на эти интерпретации. Но в то памятное детское лето, когда самое главное в моих наблюдениях над ним было ещё впереди, я не в состоянии был увидеть его личность в строгом соотношении с неблагоприятными обстоятельствами, которые окружали и подавляли его. Больше интересовала и куда-то со всё возраставшей силой затаскивала меня его загадочность, сама по себе, и я сам, без чьей-то помощи, в состоянии был заниматься уяснением разве что её величины, не уделяя внимания тому, что тут должны что-нибудь значить и обстоятельства, а тем более – неблагоприятные. И однако что-то быстро менялось во мне. Я ощущал, как менее расплывчатыми становились моё ребячье воображение и любопытство, подогретые на пленэре.
«Не пытается ли он, – думал я, – через своё увлечение художеством попросту увернуться от чего-то, с чем приходится жить и мириться, зная, что всё равно лучше быть не может, а вот хуже возможно вполне? Или уж есть и такое, что он изо всех сил скрывает и вследствие этого осторожничает, боясь, как бы нечаянно не выдать себя?»
– Что, не нравишься сам себе? – спрашивал между тем Веналий, обращаясь ко мне и имея в виду только что созданное неоконченное произведение. – Грустен, хмур… Ну, держись молодцом!.. – И он легонько, ласково потрепал меня по плечу.
– Хотел увидеть уже готовым; а так – я доволен… – пробормотал я, чувствуя, как запутываюсь и говорю совсем, видимо, не то, что следовало бы.
– Ладно, – услышал я на это. – Тобой я тоже доволен. Обязательно закончим. Приходи.
Я кивнул. Вместе с ним я сошёл по склону в направлении палаток, провожая его. Мы успели ещё обмолвиться несколькими фразами, но о моём неоконченном портрете больше не говорили. Веналий уже торопился уйти на выкосы, и мы расстались.
Дальнейшее происходило так неожиданно и стремительно, что оно ещё и после долго казалось мне тяжёлым и грубым сном, где потерянно увязаешь и когда пробуешь выбраться, то чувствуешь себя до основания сокрушённым, разбитым, испотрошённым.
Я не очень хотел позировать ещё, но также не мог и отказаться. Поразмышляв, я приходил к выводу, что мы с Веналием уже друзья, пусть и не в доску, но имеющие много общего, взаимно терпимые и уважающие друг друга, и я в этих отношениях, пожалуй, более искренен и прост, хотя не умею этого показать или выразить в словах, а он уже мог не раз убедиться, что здесь я надёжен, и способен довериться мне…
И тут вновь прошло через меня былое неотчётливое сомнение. В чём он должен довериться мне, пацану? Разве уже недостаточно я узнал о нём, и не только как о художнике? Что мне вообще тут было нужно? Для чего я так усердливо создаю тайну в нём, упуская из виду, что этим не только оскорбляю его, но и рушу всё то доброе, что стало для нас неразделимым и не так уж не бесценным, то есть по сути – вероломно предаю его?
Работы заготовщиков на лугу подходили к концу. Желая всё-таки остаться верным обещанию, я намеревался отправиться на выкосы уже на следующий день. Однако получилось всё не так, как я мог бы рассчитывать.
Едва отойдя от дома, я увидел возбуждённую ораву мальчишек, цепочкой двигавшуюся по неровной, избитой скотом, твёрдой полосе дороги посередине нашей улицы. В селе эта улица крайняя от соседних, тянувшихся параллельно. Она была редко застроена избами и только одной из сторон, а другой примыкала к заовраженным, поросшим густой высокой травой пустырям, где местами росли также деревья и кустарники. Мальчишки громко кричали и, поднимая из-под ног иссохшие жёсткие куски щебёнчатой земли, бросали их вперёд себя.
Мишенью был уходивший от них человек среднего роста, страшно худой, почти старик, давно не бритый, в странной одежде, которая выделялась не изношенностью, что ввиду лишений военного времени могло бы и не привлекать внимания, а тем, что была, очевидно, с чужих плеч. Истрёпанный сероватый пиджачишко с рукавами, уходившими пониже кистей, протёртые у колен и незаштопанные коротковатые штаны, тесно сидевший на голове картуз невесть какой моды с твёрдым чёрного цвета козырьком и сдавленным серым околышем. В бортах человек застегнул пиджак на единственную непотерянную пуговицу, так что было видно, что ни рубахи, ни споднего на нём нет. И уходил незнакомец как-то странно.
Он заметным усилием сдерживал себя, показывая, что не убегает и только пытался что-то сказать ребятам. Я прислушался.
– Да не бейте же меня, мне больно, – говорил он, с трудом сохраняя самообладание и прикрывая голову поднятыми над ней руками. – Никакой я не враг. С чего вы взяли? Иду и всё. Не бейте же!
Но шумное преследование продолжалось.
– Перестаньте, дети; – что вы делаете? Ну, хоть пожалейте. Мне больно. Я болен. Я иду по своим делам, – мужчина говорил почти не прерываясь. По его голосу чувствовалось, что он уже и не надеялся удержать зарвавшихся сопляков.
И, словно в подтверждение этому худшему, брошенный очередной кусок жёсткой земли ударил ему в голову и так метко, что рассыпался, отозвавшись характерным звуком точного попадания.
– Бей его!!! – раздался срывающийся крик, вслед за чем отчаянно залаяла малорослая собачонка-колобок, бывшая при одном из наступавших и прежде только пытавшаяся пробовать голос невнятным, будто ещё безадресным рокотком услужливой злости. Словно по команде тут же громко завторил ему целый выплеск собачьего лая в ближайших дворах.
– Постойте, ребята! – смущённый ещё и этой напастью, продолжал говорить незнакомец. – Ну, поймите, вы делаете мне больно. Хоть я и чужой, а ведь могу на вас и пожаловаться, имейте в виду…
Очередной удар пришёлся ему около виска, у глаза. Брызнула кровь. Ребятня подбежала ближе, готовясь каждый запустить в человека свою долю. Вынужденный не отставать от стаи, я также поднял кусок земли и готов был швырнуть его в незнакомца.
– Ты же не хочешь сказать, куда идёшь и откуда!
– И – зачем!
– И – как зовут!
– А почему прятался?
– Раз не говоришь, значит, враг!
– И от нас не уйдёшь!
Из этих и других выкриков, подогревавших общее возбуждение, мне стало понятно: дело не шуточное.
Человек вышел на улицу со стороны пустырей. Видимо, он хотел пройти к одному из дворов, не исключено, что даже к дому нашей семьи, – но был обнаружен и сразу вызвал подозрение. Село глухое, недалеко от границы. Несвоими знали здесь в основном проверяющих из райцентра, энкавэдэшников[13 - Служащие Народного комиссариата внутренних дел – главного государственного органа, творившего тотальные репрессии в Советском Союзе.], доставщиков скудного набора товаров для сельповского лотка, сезонных работников, например, таких, как заготовщики сена, о которых я рассказываю, солдат, иногда принимаемых на временный постой в чьи-нибудь избы или откуда-нибудь приходивших за водкой; – но никто из таких посетителей не шастал по окраинам, не пытался быть незамеченным посреди бела дня.
Для нас, местной ребятни, чужаки, а тем более с необычным поведением, вызывали интерес, не ограниченный простым любопытством. Какой-то огромной частью наше неустойчивое детское сознание уже, наверное, с рождения приобретало установку на обязательную повышенную бдительность. Она не была политизированной впрямую, на самом же деле имела окраску именно политизированности, так как в ней выражался образ местной общинной жизни, привычно замкнутый на идеологии ненависти к любым врагам, нещадной борьбы с ними и – не представляемый как-то иначе.
Хотя бы отчасти освободиться от догматики этого дьявольского уклада, если даже иногда становилась известной или даже оказывалась на виду его разлагающая душу тёмная суть, практически не было дано никому – ни старым, ни молодым. Старым, то есть я имею в виду – по тому времени взрослым, не было дано уже, видимо, до конца их дней. Настолько эффектно и эффективно проявлялась в отдельном месте господствующая воля тоталитарного режима.
Мы, пацанва, также несли на себе проклятие и уродство этого мерзкого чудовища, срезавшего под самый корень вариативную, нестандартную, необщепринятую самостоятельность.
Только взрослея, ступая уже в другую эпоху, можно было сбросить его вериги. Но и то – далеко не всем. Требовалось очень серьёзное устремление к свободе и не в её отвлечённом, обширном значении, а, прежде всего, – каждому – для себя…
Положение прохожего выглядело ужасным. Он не мог уйти или хотя бы прибавить шагу, так как в этом случае выдавал бы намерение скрыться, и тем самым подтверждались бы самые худшие подозрения, которые звучали в его адрес. Не мог он воспрепятствовать и избиению, поскольку не был в силах противостоять подступавшим к нему.
Я помню, что в той обстановке не испытывал к нему ни жалости, ни сострадания. Ничего вообще. Как будто я и не имел на это права. Будто здесь происходило не реальное действие, а некая лишь воображаемая, кем-то настойчиво предложенная и мною не без моего желания принятая игра и мне следовало как можно более отличиться в лучшем и сейчас я поступаю, конечно, вовсе не плохо, а только хорошо, так что достоин даже похвалы. Чьей? Этого я ни за что бы не сформулировал.
Притупления смысла в своём поведении я, кажется, также не чувствовал, равно как и боязни хоть в какой-то форме получить отпор от преследуемого. Думаю, аналогичным было состояние и у других ребят.
Я уже поднял руку, собираясь замахнуться и бросить зажатый в кулаке кусок в человека, но вдруг этот кусок из кулака выронился и упал на землю, разваливаясь, а мою кисть обожгла резкая тяжёлая боль. Тут же боль прожгла и моё плечо, вдавливаясь в лопаточную кость.
Ещё не успев заплакать, я повернулся и увидел свою мать. В руке у неё был прут из тугой не свежей, но и не вконец просохшей лозы. Я его сразу узнал: его ставили у нас у крыльца и пользовались для выпроваживания на пастьбу из домашнего скотного загона коровы и полугодовалого бычка. Теперь мать готовилась огреть меня им снова и не решилась на это только из-за того, что удар пришёлся бы прямо мне по лицу.
Я утирал слёзы и слышал, как мать в исступлении хлещет лозиной каждого из мальчишек, до которых могла и успевала дотянуться. Раздались крики, всхлипы.
Гулкий собачий лай к этому времени уже сплошь нависал над селом. Ребята бросились врассыпную.
– Убирайтесь! Чёртовы пособники! Зверьё! Негодяи! – надсадно кричала вдогонку им моя родительница, размахивая палкой и притопывая. Такой возбуждённой и рассвирепевшей я никогда раньше её не видел.
– И как не стыдно! У, дряни! – говорила она, подходя ко мне, оцепеневшему и даже не пытавшемуся убегать.
Я увидел, как она сделала жест, будто хочет отбросить от себя палку, но раздумала, видимо, вспомнив, что надо отнести её на место у крыльца, и только взяла её, чтобы держать, в другую, в левую руку и, всё ещё находясь во власти крайнего раздражения, резко, в сердцах, стукнула уголками своих суховатых, огрубелых от нескончаемой физической работы пальцев освободившейся правой руки по верху моей головы и ещё протянула ими по ней. На этом месте я почувствовал мокрость от выступившей на коже сукровицы. От сильной жгущей боли я буквально взвыл.