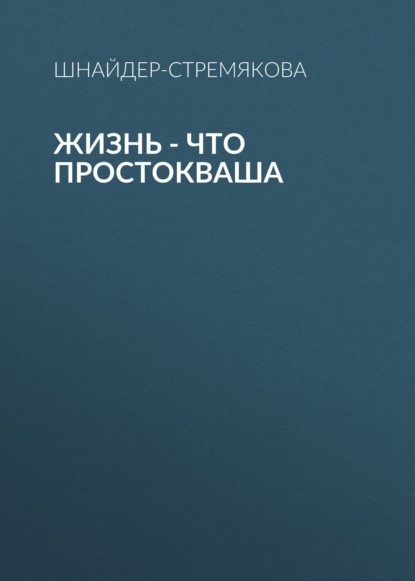По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь – что простокваша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Няня проведала меня через девять дней.
С ощущением счастья иду в школу. Спускаюсь в яр, на дне которого весенние воды вымывали глубокие ямы, и в одной из них вижу по пояс няню в белом. Она протягивает ко мне руки-крылья, и я с радостью бросаюсь к ним:
– Мутер! Голубушка! Я соскучилась! Ты куда девалась?
Няня уже близко! Я скоро обниму её! Подбегаю и – о ужас!.. Няня, приседая, постепенно исчезает… Становлюсь на колени, смотрю вниз – няни нет!
– Ты почему?.. – и, не успев крикнуть «прячешься», проснулась.
Утром рассказала сон маме.
– Господи! Хорошо, что в яму не спустилась! – испугалась она.
– Почему? Так хотелось к ней!
– Слава Богу, что сон так закончился!
Через год мы переехали в другое село, потом в город, и могила няни затерялась на алтайском кладбище села Степной Кучук.
Светлые воспоминания
Занятость дома и в школе смягчала горечь утраты.
Чаще приходила теперь бабушка Зина – нянчилась с детьми. Жила она в учительском доме с Лидой, что преподавала у нас в школе. Жизнь бабушки обретала контуры покоя – она не жаловалась.
Лида любила готовить школьные праздники – возможно, в ней умер режиссёр. В день концерта или спектакля все, кто мог двигаться: дети, взрослые, старики, безногие, хромые – устремлялись к школе, как в театр.
Среди преподавателей выделялся ссыльный украинец спортивного вида – математик Шевченко Пётр Григорьевич. Высокий лоб его плавно переходил в большую лысину, что ничуть его не старила. Его живые и выразительные на смуглом лице глаза выделялись, как чёрные семечки на ещё не отцветшем подсолнухе. Любимец учеников, он двигался легко и весело.
Овальные печи часто не топились – нечем было. Дети на уроках сидели в пальто, шапках и даже в рукавицах; учителя являлись тоже в пальто; никогда не позволял приходить одетым один только Пётр Григорьевич.
Его уроки были, как маленькие спектакли. В один из таких холодных дней ждали мы, нахохлившиеся, прихода учителя. Резко открылась дверь, и в своём неизменно коричневом пиджаке и чёрных брюках с какими-то наглядными пособиями энергично вошёл Пётр Григорьевич, скользнул глазами по классу и полушутя спросил:
– Что? Замёрзли? Ничего – согреемся! У нас сегодня геометрия – новый предмет, познакомимся со многими понятиями.
Оптимизм радовал, но услышанное не грело – на учителя глядели стыло.
– Посмотрите-ка, что я принёс! Как вы думаете, что это за фигура? – показал он прямоугольник.
В ответ – тупое молчание.
– А что она напоминает? – хитро оглядел он класс.
– Ну, стену дома… – равнодушно-робко заметил кто-то и зажал рот, что сказал глупость.
– А почему бы нет? Конечно, стену дома! – Пётр Григорьевич улыбнулся весело-игриво.
Развеселились… Загалдели…
– А это что? – показал он треугольник.
Опять молчание.
– А теперь что? – тормошил он, приставив треугольник к прямоугольнику.
– Ой, домик получился! – радуясь открытию, догадался кто-то.
– Правильно, получился домик. Крыша – треугольник, стена – прямоугольник, а вместе – домик. Знание геометрических фигур необходимо при строительстве зданий, стороны которых соединяются прямо и косо. Прямо – прямой угол, косо – косой.
Учителя Степнокучукской семилетней школы. Верхний ряд: справа Иван Федосеевич Максачук, в центре Пётр Григорьевич Шевченко, нижний ряд: слева ветеран школы учительница начальных классов Антонина Фёдоровна Шевченко, вторая справа Лидия Александровна Германн. 1951
– Ой, как интересно! – раздался чей-то восторженный голос.
– Конечно, интересно! С прямыми углами дело обстоит просто, у них – всегда! – девяносто градусов. Запомнили?
– Да-а!
– С косыми углами посложнее, у них и градусы разные, а измерять их надо вот чем! И называется этот предмет – тран-спор-тир! Вот это – острый угол, он меньше прямого; вот это – тупой, больше прямого!
Мы, как заколдованные, слушали, забыв про холод, – при 30-градусном сибирском морозе школа не отапливалась уже неделю. И когда Пётр Григорьевич произнёс: «Чтобы трудные слова легче запомнились, их лучше записать», активное большинство спустило с плеч пальто, сняли шапки и рукавицы; их засунули для тепла под мягкие места – изнеженное меньшинство освобождало для письма лишь правый рукав. Чертили углы, биссектрисы, прямые; у доски большим деревянным транспортиром учились определять углы. Объём знаний, полученный за 45 минут урока, был большим, но дети не устали и не заметили, как прошли минуты.
– Ну как – согрелись?
– Да-a!
– Главное – работать, тогда и холод будет не страшен! – напутствовал учитель короткой моралью и вышел из класса.
…А сейчас в так называемом зале – самом большом классе школы, – наполненном так, что невозможно протиснуться внутрь, Пётр Григорьевич стоит перед зрителями и ждёт тишины.
Сидят за партами, на принесённых из дому табуретах, а перед партами и у боковой стены – на полу. Свободны лишь два пятачка: небольшое пространство для «сцены» (три метра от классной доски) и дверь, что вела за «сценой» в учительскую, откуда выходили «артисты». Две десятилинейные керосиновые лампы освещают «сцену», зрители – во мраке.
У Петра Григорьевича сильный, оперный голос. Запел «Дывлюсь я на нэбо, та й думку гадаю» – мороз по коже. Удивительно пел, незабываемо!..
Хор трогательно, мелодично и на полном серьёзе исполнил «Днипро», «Ой, туманы, мои растуманы» – я запевала. Краями тёмных шалей женщины украдкой вытирали глаза.
Незабываемо получилась инсценировка песни про храброго матроса, который погиб. Когда занесли лежавшего на носилках Шуру Логинова, чьё лицо Лида искусно запудрила мукой, а на перебинтованную голову щедро налила красные свёкольные чернила, слёзы навернулись даже у хористов, знавших эту кухню. В «зале» запричитали:
– Уби-или! Уби-или! Он и вправду убит!
– Тише ты, живой он! – шикнули на голос.
Песня была длинной. Всё время, пока пели, мать Шуры щурилась – приглядывалась к носилкам.
– Господи, Шура, ты живой? – простонала она, признав сына.
Шура лежал без признаков жизни.
Песня закончилась, носилки сняли с табуреток, но в «зале» поднялось что-то невообразимое – требовали, чтобы «убитый» встал. «Хор» стоял на «сцене», «мёртвый» лежал на брезенте; «артисты» и носильщики в нерешительности поглядывали на «кулисы» – открытую дверь учительской. Лиде-«сценаристу» пришлось выйти и шепнуть двум могучим «хористам», чтоб носилки опустили на пол, а «мёртвый» поднялся и поклонился.