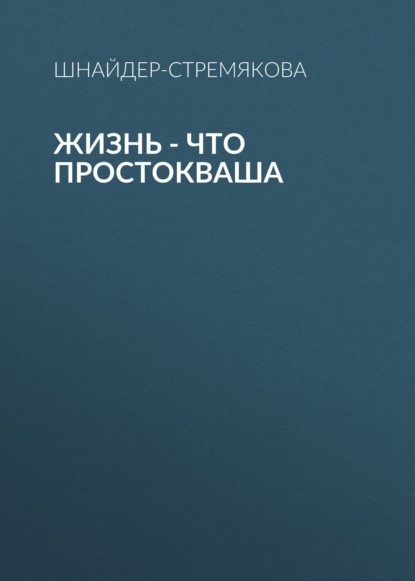По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь – что простокваша
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алёшу и Соколова нашли последними: Алёшу – в десяти километрах от деревни, Соколова – в другом районе, весной, когда растаял снег. Тела подвозили к сельсовету без огласки. Размораживали и отдавали родителям. Хоронили тихо, узким семейным кругом, – таковы были предписания.
Через месяц после трагедии прокуратура завела уголовное дело – директор и учителя обвинялись в халатности и вредительстве. Учителя отстранялись от работы, и дети подолгу не учились. Но… останавливать процесс обучения нельзя было, и подозреваемые во «вредительстве» вновь допускались к работе.
Дело тянулось около года. Лиде, классной руководительнице, немке и дочери «врага народа», прочили двадцать пять лет – в её классе учились Люба и Алёша.
Деревня гудела: бессмысленность и надуманность дЕла были очевидны. Осудить одну из хозяек, потерявшей на войне мужа и двух сыновей, было жестоко – оправдать хозяйку и осудить кого-либо из учителей было нелогично и подрывало доверие к правосудию. Между желанием найти «козла отпущения» и законностью образовался тупик, конец которому положил отец Алёши Харченко. На последнем заседании он заявил, что предъявленные учителям обвинения не имеют под собой почвы:
– В смерти детей никто не виноват. Хозяйку они не послушали, учителя и директор об их уходе ничего не знали. Несправедливо обвинять невиновных. Я скорблю: потерял любимца, но это не даёт мне права обвинять других. Виноват буран и он сам и, если уж судить здраво, то председатель колхоза. Ходить в такую даль дети не должны, их надо возить! – закончил этот мужественный и мудрый человек.
Село облегчённо вздохнуло.
День поминовения
Приближалась Пасха – отмечать её было строжайше запрещено. В семьях украдкой красили яйца для родительского дня – дня поминовения. Гурьба детей возвращалась с занятий, и Шура Логинов радостно сообщил:
– А завтра родительский день!
– И что с того? – удивилась Иза, в которую был влюблён Шура.
– На кладбище пойдём, наедимся.
– Как это?
– У вас, у немцев, нет что ли родительского дня?
– Не знаю. А что это такое?
– На могилки к родным и знакомым приходят с едой, угощают друг друга – за помин души.
В разговор вмешался светлокудрый Коля Маллаев.
– А жена директора школы каждый год кутью приносит. Кто завтра с нами? Там столько вкуснятины будет!
– Хорошо бы, – вздохнула Валя, – но если узнают, из школы исключат.
– Не узнают! – обнадёжил Коля. – Среди нас нет доносчиков, только дома ничего не говорите, а то проболтаются. Жена директора школы всех угощает, но не болтает, кто бывает на кладбище. Я знаю – в прошлом году ходил.
– Давайте все и пойдём. После уроков в яру соберёмся.
Соблазн попробовать незнакомую кутью оказался выше страха перед исключением, и мы с Изой составили детям компанию.
На кладбище не более десяти женщин. Сидят в разных местах, каждая – у своей могилки. Издали доносятся причитания и плачи. Подходим, молча останавливаемся, иногда надолго – ждём, пока женщина прекратит надрывно-печальное завывание, что проникает в грудь и там застревает. Наконец, плакальщица тяжело поднимает голову, укутанную в тёмную шаль, мрачно оглядывает нас и, облюбовав кого-то, молча протягивает белый кусок запашистого домашнего хлеба, яйцо либо пряник, а иногда и лакомство – квадратные карамельки-подушечки».
У Шуры Логинова и Али Мешковой угощений больше всего. Их жалеют: «У вас отцы погибли».
Каждый, кроме нас с Изой, что-то уже жуёт.
– Почему нам не подают? – недоумевает Иза.
– Вы позади становитесь и руки не протягиваете! – предполагает Коля Маллаев.
– Давайте за ними встанем, им же тоже хочется! – жалеет нас Шура.
У следующей могилки нас вытолкнули вперёд. Но… не скрывая неприязни, женщина отвела наши руки и подала большой кусок белого хлеба стоявшему позади Шуре Логинову… Наклонилась, достала крашеное луковой шелухой яйцо и подала Вале через наши головы.
Унижение, боль, обида… Всё смешалось. На глазах слёзы, но мы держимся, будто это не задевает… Улыбаемся и объясняем, что дома нас потеряли. Дети просят остаться. Шура разломал ломоть хлеба, Валя дала крашеное яйцо, и мы поплелись за детьми. Дошли до могилы, где на траве сидела жена директора школы – красивая, аккуратная дородная женщина в чёрном кружевном шарфе. Оглядела детей, улыбнулась нам с Изой:
– А вы что сзади встали? Подходите смелее, становитесь полукругом. Кутьи на всех хватит! – и на свежий лист лопуха наложила всем по большой ложке. – Подходите, подходите!
Улыбнулась, подала нам по яйцу, повернулась к женщинам, что сидели неподалеку:
– Дети не виноваты…
И подавать нам начали наравне со всеми.
Хотелось знать, где раздобыла она рис и изюм. Всезнающий Коля пояснил:
– Говорит, в Кулунде достала.
Поздним вечером мы заявились домой с полными руками гостинцев, но, вместо похвалы, нас ожидала взбучка.
– Как вы могли?.. А если из-за этих яиц исключат из школы? – негодовала мама.
– Тогда и других исключат – нас уговорили.
– Нечего уговорам поддаваться – у них отцы на фронте погибли!
– И у нас папа погиб, – нашлась я.
– Но не на фронте – в трудармии!
Так день поминовения помог понять, что трудармия – это позорно. С того времени я никому не говорила, что отец нашёл в ней свою смерть – молчала.
– Нам есть хотелось, а мы всё домой принесли. Ругаешься… – накуксилась Иза.
– Ну, ладно, – и сменив гнев на милость, мама принялась расспрашивать, выпытывая подробности.
Мы рассказывали, перебивая друг друга…
– Плохо подавали, потому что ни капельки на оборванцев не смахивали! – решила я.
– А другие «смахивали»? – удивилась мама.
– Ещё как! Они переоделись и явились, как попрошайки, грязные, а Коля ещё и лицо вымазал. Мы смеялись, а он: «Дураки вы, ничего не понимаете».
– И им не стыдно было?
– Нисколько! А мы не переоделись. Не подумали даже…