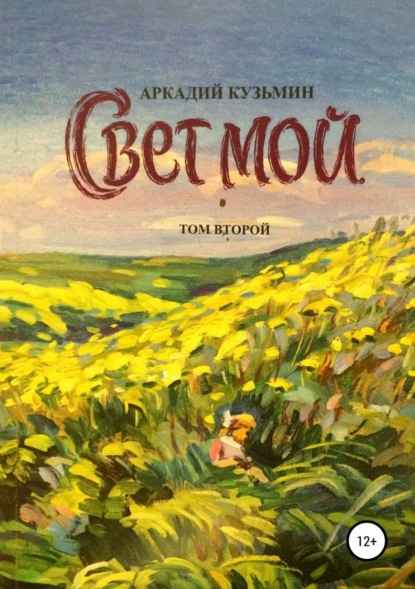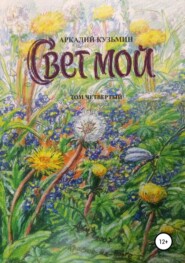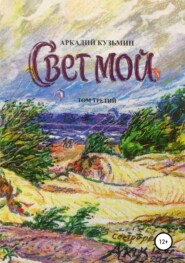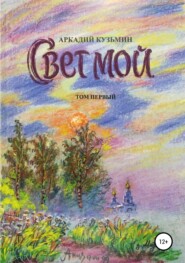По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
XXVIII
В чем же Анна Кашина и все другие провинились, перед кем, что им, как голи бездомной, перекатной, приходилось туда-сюда мыкаться? Не раз и не два уже. Кто ж их так жестоко наказал? Просто обстоятельства? В 41-м еще Кашины столько раз (не упомнить), спасаясь от бомбежек, бросая все, тащились по вечерам всей оравой прочь от дома – ночевали где-нибудь, забившись, в оврагах и кустах, а наутро тащились, естественно, обратно. Были в Строенках, в Дубакино, ездили в Шалаево. Тогда как завоеватели в листовках одним росчерком пера удостаивали приговора всех советских людей: или отдашься на милость победителя, или каюк тебе. Середины у них не было. А потом же и шутили с показной прямолинейностью: «Мы – солдаты, не политики, мы стрелять умеем. Есть дело, поважнее мира». Ох, головушка горькая, что не одна она, Анна уже вытерпела, вынесла. Где конец всему?
Хороший, полуобморочный сон в теплой избе способствовал некоторому восстановлению сил физических и, хотя отчетливей теперь, наутро, сконцентрировалась ломота в суставах и в спине, как если бы вчера вагоны разгружали – наломались, зарядил всех необходимой свежей бодростью. Всех, кроме Сашки, кого вновь уже донимали заболевшие бока и ноги, хотя он крепился, сколько мог… А ведь раньше парень был вынослив, крепок, неболезнен. Кругл, ровно колобок. Ел за двоих – уминал за обе щеки: дома, в яслях… Так, отец нередко ставил его в пример Антону, росшему каким-то худеньким, не расположенным к еде: «Вот взгляни-ка на него – он всюду поесть успевает, зато и здоров; ну, а ты – разве годишься в едоки?.. Разве сильным вырастишь?»
Отсюда попасть в Ромашино можно двояким образом: через Рыково и через Папино. Но папинский большак, поскольку он лежал восточней, т.е. ближе к фронтовой полосе, был, по наблюдениям местных, менее бойчее. И Татьяна посоветовала именно его придерживаться, чтобы выйти через Папино.
– Ну, ни пуха, ни пера вам! – Пожелала она с крыльца избы своей.
Так и сделали беглецы во второй день своего невольного путешествия: послушались дельного совета.
С рассветом прохладно-трепетная голубая дымка затопила и раздвинула кругом пространство, отодвинув горизонт. Была звонкая, еще морозная тишь.
Вместе с тем морозец за ночь съел еще больше ноздреватый снег, осели или оголились местами участки полей и дорог. А днем с каждым часом все теплело и еще сильней, чем накануне, его отпускало, почему и больше, чем то было накануне, стоило беглецам усилий, напряжения. Ноги, санки вскоре поминутно начали проваливаться, застревать, не говоря уже о том, что у Саши, Гриши и Антона вскорости промокли снова их безгалошные валенки, – они в них уже просто хлябали по бездорожью, почти без разбора… Боль от застуженных ног причиняла Саше подлинную муку: у него даже навертывались слезы на глазах, и он, плача, все чаще подсаживался (его уговаривали) на кромку санок, потому что он не мог идти много – у него отнимались ноги.
Было это очень худо. Взрослые боялись Сашу потерять, боялись пуще, чем даже более недели назад, когда гнали их еще сюда по Рыковскому тракту.
Анна с Сашею поизвелась, поизмучилась – в попытках боль его заговорить (что она могла еще?), тогда как в глазах у нее самой уже плыли какие-то оранжевые пятна и круги, – видимо, от яркого солнечного света, искристой снежной белизны и пляшущих бликов. Лицо, накаленное, разгоряченное, пощипывало.
В середине дня знакомо повторился их маневр: они с восточной стороны вышли (вывела дорога) к большаку и чтобы перейти его в соответствующем месте – протащились, как и вчера, вдоль его, навстречу сыпавшейся тьме неприятельских войск. И перешли небольшой деревянный мост, перекинутый через речку Осуга, – голые доски, лужи на них; на перилах его висела гирлянда круглых, словно сковородки, противотанковых мин, еще не соединенных с отростками проводом.
Как видно было, мины уже были заложены всюду, в особенности вблизи дорог и на возвышенностях, на подходе к ним, – зеленели всюду понатыканные в снегу нарезанные лапки елок – указатели (для немецких солдат) нахождения сокрытых в снегу мин. Ребята это сразу раскусили. Бесстрашно они волочили санки здесь. С уклонением от этих лапок елочных.
Выселенцы, притянувшись, слиплись, с санками, на еще крепко-снежной обочине большака; они, нервничая больше, чем дольше стояли около него, дожидались хоть какого-нибудь перерыва во все неубывающем потоке ходко откатывавшихся немецких войск; им следовало только перейти большак на другую сторону – для того, чтобы, отвильнув там от него, пробираться скрытней по дорожкам и тропинкам дальше, к Ржеву.
Поразительно, подумалось Антону, неожиданно во время этого стояния: ведь такое уже было, было с ним, кажется, в развязлый октябрьский день в 41-м, т.е. полтора года назад. Следовательно, ему-то и Саше уже вторично довелось наблюдать нечто схожее и в то же время столь различное в этом адском механизме массового перемещения на местности вражеских солдат, наблюдать никак не издали, а всего в двух-трех шагах от них, и даже слышать пых каждого солдата-иноземца, принесшего на нашу землю горе.
Беспорядочно теперь немцев гнало одно отступление, отметавшее прочь всякую прежнюю солидность, позу победительности – в тех из них, у кого то одержимо прорывалось некогда; они валили в сумасшедшем темпе, точно кто невидимый, но всесильный, страшный насел наконец на хвост им – и погонял без устали, не давая передышки, изматывая их. Криками и руганью они подгоняли измученных и обезумленных, пропотелых, отфыркивающихся лошадей, подталкивали с бегу там-сям подзастравшие свои фургонообразные повозки, орудийные прицепы, хоботожелтые орудия, минометы, помятые походные кухни, бренчали снаряжением; ноги и колеса всевозможные месили и месили донельзя растолченный и сыпучий, что песок, погрязневший снег.
XXIX
Итак, снова их пути перекрестились. На самом перекрестке. Сошлись лицом к лицу.
Но, возможно, беженцев в какой-то мере и спасало еще то, что отступавшие так немцы, встречаясь с ними таким образом, также заставляли их по-быстрому, спеша вытаскивать застревавшие повозки и прицепы и поэтому почти не интересовались, кто они такие и откуда, и куда идут. Поток все не прерывался, когда отделившись от него и подшагнув, перед караваном возвращенцев встал все-таки еще молодцеватый и здоровый внешне гитлеровский офицер.
– Ви кто? – спросил он со строгостью, оглядывая всех пронзительным холодным взглядом. – Пачему тут ходите? Какое основание у вас?
Наташа, опять выступив вперед с «ребенком», взятым из саней, повторила версию:
– Домой нас отпустили. Сказали: марш домой. Nach Hause. И мы пошли.
Он не очень-то поверил, потому востребовал коротко:
– Показите документ!
– Документ?! Какой документ?
– Настоящая папир. Германская. С печатью.
Значит, справку требовал. Все понятно. Загреметь могли.
«Господи, – с ненавистью и бессилием разотчаялась Анна, – какие все-таки дотошные и страшные: бегут, как тараканы, а все равно ты им бумажку подавай – что отпущен ими ты на волю, независим; сунь бумажку им под нос, когда решается вопрос о жизни».
Никто из допрашиваемых так не знал (либо знал где-то в уме, но не придавал тому должное значение, на какое все было рассчитано), что в приказах оккупационных властей категорически запрещалось «хождение гражданского населения вне пределов места жительства без особого письменного разрешения (пропуска), выданного ближайшей германской воинской частью» и что этот офицер, верно, имея сильное личное, кроме нацистского, подозрение на всех русских, спрашивал у них именно такой пропуск, удостоверяющий их дремучие личности.
Лавина отступающих не иссякала – все лупила.
Немецкий же офицер с чрезвычайной уже подозрительностью напирал на смельчаков, задерживая их, а они разыгранно (чтобы как-то выкрутиться, время выиграть) искали по карманам требуемый документ; и эта-то его дотошная придирчивость, не предвещавшая поблажки никакой, была не случайна, нет. Не таким уж либеральным был он, офицер вермахта, чтобы позволять всем русским своевольничать, когда изданы германские оккупационные приказы, точно ограничивающие, это непоседливое население, в поведении, в передвижении и прочее. И только одно, к его сожалению, как все же выдавал его колючий, стреляющий взгляд, уменьшало сейчас шансы ему отличиться в рвении службиста: захвативший, не дававший нисколько времени, отступательный бег среди товарищей и подчиненных. За тем, собственно, было дело.
Большак здесь скатывался под уклон. Лошади неслись ускоренно. А за фургонами впритруску молотили пешие немцы, словно так подхлестываемые приближенным буханьем советских пушек. Отступающие оборачивались на бегу, узывали привязавшегося офицера – чтоб он поскорее догонял их, не задерживался.
А тем временем – пока Наташа и Анна еще переговаривались с ним и доказывали ему что-то – все беглецы, кроме только них, – уже перемахнули с санками за большак. И Антон, уже вернувшись вновь, без санок, попытался уволочь и сестру, и мать – подталкивал их: сзади опять накатывалась новая волна немцев. Но гитлеровец все еще держал Анну и Наташу под допросом.
И тогда Анна с каким-то хлестким, рвущимся изнутри вызовом, во гневе, махнув, что говорится, на него, его настырность, хотя у ней и все поджилки затряслись, выхватила из кармана шубы нащупанный треугольничек письма мужнина, которое она теперь с собой носила, и потрясла им перед этими чужими холодно-льдистыми глазами:
– Вот мой документ! Смотри! Смотри! – И уж не спросясь, тронулась вместе с Наташею через большак, пока немец приходил в себя, нехотя отстав от них. Это сделать его вынудили только фронтовые обстоятельства. А то бы – никогда…
Вышло все куда как проще. Снова накатил вал отходивших войск, и он поглотил фашиста.
Скоро главная дорога была позади. Осталось позади еще одно обширное минное немецкое поле. Увязая в чистом и мелком свеженаносном снегу и крупчатом старом, забивая им даже голенища валенок, беглецы ринулись под горку, в лесок, – и были таковы. Здесь сочли себя опять в наибольшей безопасности.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Распогоживалось, знать. Были высокие, рябьистые, с проталинами голубизны облачка волнообразные, но лениво спокойные, стоячие, задумавшиеся. Еще розовел и синел снег под солнцем. По-зимнему.
В леске настойчиво-призывно какая-то пичужка маленькая издавала чудный звонкочистый малиновый свист: тюить-тюить-тюить. Заслушаться можно. И, перебивая ее сварливо, остервенело-грубо закаркала ворона. Кричала будто мартовская кошка.
Однако, беглецы и петляя по сиреневой, также прополосованной колесами, дороге в перелеске, получалось, рано радовались, что они отделались легко – и, живехонькие, увильнули от заядлого, видать, фашиста: спереди – навстречу им (они углядели) – и еще двоих несло. Притеснителей-губителей. Вынесло из-за рыжеющих кустов, облитых сверху донизу потоком солнечного света. Снова уж угораздило на них нарваться. Надо ж, снова втрескались. Ну, незадачка! Как не повезет, так не повезет. И от невезения Анна даже ахнула, или простонала, как у ней бывало часто. И без повода порой. Без большого и серьезного.
Да, конечно, было бы благоразумнее сейчас вообще не попадаться на глаза врагу; но ведь надо было где-то пробираться, двигаться, если домой выступили, не струхнув особенно, хотя взвесили все «за» и «против».
Куда-то налегке несло двоих вражеских молодых солдат, от которых выселенцы уже стали почти отвыкать, вследствие чего уже и будто более пугались вида их, а главное, какого-то ненасытно-гончего духа, пробуждавшегося в них, стоило тем лишь завидеть мирных русских жителей. Поравнявшись с молодыми женщинами, солдаты точно между собой перемигнулись и, вроде б облизнувшись, как нагловатые коты, даже для чего-то поздоровались:
– Guten tag!
А по обыкновению немецкие солдаты никогда этого не делали. Они вежливостью никогда не отличались. Как и не стыдились, например, при женщинах сидеть без штанов на перекладине своих примитивных, открытых уборных.
– Guten tag! – ответила Дуня приветливо, блеснув улыбкою на всякий случай. Мало ль что: может, патрули любезные такие. Манер понабрались. Утонченности…
Однако (так и есть!) немцы, едва разминувшись, в бесцельной нерешительности затоптались на дороге; потом они обратно развернули и догнали беглецов, шедших тяжелей (со скарбом, с ребятишками), и зачем-то пошли, пошли рядом. Молча, откровенно, нагло. Добровольные сопровождающие? И такое их поведение настораживало. Что так отведут куда-то?
– Боже, что им нужно, Анна? – ужаснулась Дуня. – Я боюсь. Что затеяли?
– Да понятия я не имею, что. Все одно и то же, знать. – Анна знала, что они не застрахованы от мародеров – схватывались с ними много раз. Но тут солдаты, видимо, рассчитывали на другое…
И она, почуявши недоброе по их сопению, по их замкнутым, непроницаемым лицам, по их молчаливо неотступному преследованию, шаг в шаг, тихо, умоляюще почти позвала, глазами поведя на них, на преследователей: – Антон! Саша! Коля!