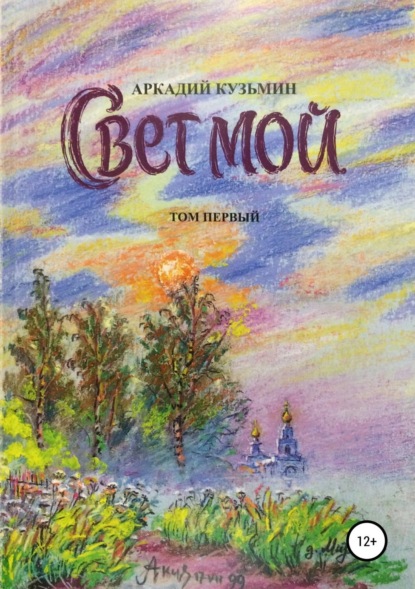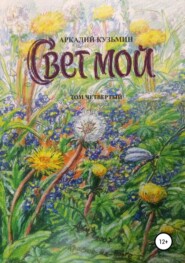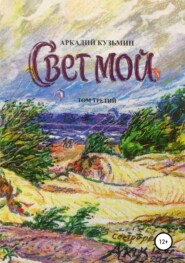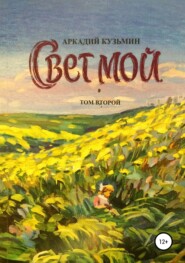По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фриц на кухне же, куда он пришел, деловито и неотложно велел Антону закатать до колен штанину на больной ноге и поставить ее на край венского стула; профессионально осмотрев ее, он без колебания сказал, что она нуждается в маленькой операции – лечении и что это нисколько не больно будет: будет удален нарыв. Антон согласился. Из ящичка-саквояжа Фриц достал небольшой стеклянный флакон с прозрачной жидкостью, наклонил его, нажал пальцем на пипетку и попшикал распыляющейся струей этой жидкости на Антонов большой, по-черному нарывавший под ногтем и вокруг него, палец на ноге, вследствие чего сей палец стал как бы нечувствительным к боли.
«А, это и есть замораживание, – сообразил Антон, изумляясь тому, что ему теперь не больно. – Потом, вероятно, саднить будет. Не без этого».
Затем Фриц блестящим скальпелем на его же глазах легко взрезал на замороженном пальце ноготь и удалил вместе с ногтем набрякший под ним нарыв – почернелость даже вычистил – совершенно безболезненно, точно резал какую-то чужую деревяшку. После этого на ногу наложил вместе с мазью тампон и повязку. И велел ходить только в мягкой обуви, с мягким верхом – лучше всего в каких-нибудь тапочках, чтобы обувью не жать больной палец (чтобы новый ноготь рос нормально).
Этот молодой живой и любезный черненький санитар позже делал Антону перевязку оперированной ноги. И однажды – в своей автомашине (с аптечкой), куда он перебрался. Внутри маленького фургончика, где все лекарства были рассованы по коробочкам и полочкам, он разговорился с Антоном откровенно и определенно подтвердил, что он настроен против этой войны – не хочет воевать. У них, немцев, тоже коммунисты, Тельман есть, они думают правильно. И он с гордостью показал Антону стопку собираемых им советских листовок на немецком языке, в том числе и обращения к немецким солдатам… Он уверял, что все равно перейдет линию фронта, когда выдастся ему удобный случай.
Подобное Антон впервые слышал от немецкого ефрейтора, и горячо одобрил его план. Однако и убоялся за Фрица: тот почти в открытую хранил в машине уличавшие его листовки – а что как дознается его начальство ретивое, безумное? Да разве возблагодарят его? И в волнении высказал свои искренние опасения столь искренне расположенному к русским немцу – предостерег его от грозящей ему опасности.
Спустя менее недели после этого Антон увидел Фрица (он частенько разъезжал везде), побледневшего, сидевшего с забинтованной марлей головой в коляске темного, забрызганного мотоцикла, которым правил сумрачный, тоже забрызганный грязью, солдат. Фриц повернул к Антону страдальческое лицо и издали, пытаясь улыбнуться, слабо махнул ему рукой на прощанье. И скоро, качаясь в узкой коляске, скрылся на повороте с его глаз.
XXV
Временно затишье взял сухой, теплый августовский полдень; лишь коптил стоячие, прозрачные небеса жирно-черный дымный шлейф, клубясь над железнодорожной станцией Ржева: видно, немецкое бензинохранилище горело – после пролета шестерки легких, изящных советских бомбардировщиков (с двумя «колечками» на хвосте). Они метко сбросили свой бомбовый груз. Как из прорвы теперь там чадило и чадило, все не утихая.
За избой отцовской – ближние поля, покатые, запущенные. И Антон с младшей сестренкой Верой шел по ним – вроде б за брусникой на ближайшее болотце, благо в этот час здесь наблюдалось меньше, чем обычно, солдатни нацистской. Антон воспользовался этим неспроста. Для отвода чужих глаз они несли с собой плетеную корзиночку. Но сами складывали в нее стопочкой найденные небольшие сводки от советского информбюро – их неизвестно когда сбросили с самолета. Накануне Антон случайно набрел на одну. И нынче с оглядкой по сторонам подбирал их по разным числам, окрыленный такой редкостной удачей – так представилась возможность узнать из них подлинные новости.
Но внезапно – как обухом по голове! – раздалось откуда-то знакомо повелительное:
– Kommen sie zu mir! – Идите ко мне!
Оказалось, что трое фашистов все-таки сидели вблизи, за копной клевера, и прекрасно видели ребячье занятие; ребята не заметили их – увлеклись немного. Ну, попали в переплет!
– Kommen sie zu mir! – повелительнее повторил, поднявшись во весь рост из-за копны, тонкий светлый офицер. И с превосходством пальцем поманил ребят к себе, ровно котят. А по-русски добавил: – Не выбрасывать! Сюда давай! Живо!
– Видишь, глупо: сцапали, – выдохнул Антон сожалеючи, объятый страхом: мигом осознал отчетливо, чем грозило это им, и почувствовал себя очень виноватым перед Верой – втравил ее, малую, в столь опасную историю; но, как старший, пытался все-таки подбодрить ее, испугавшуюся тоже, побледневшую: – Что ж, пойдем. Не бойся… Ничего, авось… – И взял ее, дрожавшую, за руку. Сам дрожал – больше за нее. За листовки могли и расстрелять. От фашистов станется…
Несомненно, Антон, большой, сглупил: рисковал сестренкой. Подвел ее. Вот проклятье!
Так с испугом близились к копне по скошенному клевернику.
Возле нее подзывавший их – вылощенный офицер в серо-зеленом френче с нашивками – поджидал в нетерпении, поигрывая плеточкой, забавляясь ею, тогда как еще двое офицеров меланхолично полулежали на душистом обвяленном клевере, одурманенные еще солнечным теплом, и искоса вцеливались взглядами в ребят, оборвышей. Едва ребята к ним подошли, как лощеный этот офицер, наклонившись, ущипнул за уголок один пожелтелый листок в корзинке и с подчеркнутой брезгливостью извлек его оттуда; незамедлив, сунул его в нос Антону, холодно спросил:
– Сколько лет есть тебе? Говори!
– Мне – тринадцать. – сказал Антон.
– О, мой сын тоже тринадцать… Ты читай нам это! – И далее фашист даже пояснил, почему велят (обнадеживающий жест): – Да, я русский язык знаю хорошо, но читать по-русски не умею. Ты читай, мы слушаем. – И, сунув в руку Антону листовку, снова сел рядком с сослуживцами, примял собою сено. Был весь во внимании.
Возможно, под влиянием развития военных событий не в пользу немецких войск, покорители трезвели, а наиболее реально мыслящие из них уже всерьез задумываясь над своей обманутой судьбой, хотели теперь лучше узнать самую истину, узнать от серьезного противника, с которым вероломно и жестоко воевали; могло также статься и то, что офицер, знавший и произносивший русские слова, умел и читать по-русски, только не хотел делать этого при сослуживцах, с тем, чтобы не быть обвиненным в измене, а любопытство его возобладало… Не дано Антону было знать ничего…
Не стоило злить нацистское офицерье. Пересекшимся дрожащим голосом Антон начал чтение сводки. И раз, и другой остановил его светлоликий повелитель – переводил дружкам прочитанное им. А раза два Антон останавливался в нерешительности, вопросительно взглядывал на него.
– Что? – строго спрашивал он.
– Тут сказано: «фашистские изверги». Так и читать? – Антон боялся переусердствовать – во вред самим себе. Вера-то уже тихо, жалостно хныкала. Пронзительно жалко было ее, беззащитную сестренку.
– Дальше! – подгонял, серчая, хмурясь, немец. – Всё читай!
Верочка сильней подвсхипнула за спиной Антона.
– И еще написано: «Смерть немецким оккупантам!»
– Я сказал: читай до конца!
– Всё я прочитал. Конец. Вот.
Тогда офицер, командовавший Антоном, опять пружинисто вскочил, выхватил из рук его корзинку, опрокинул ее наземь; пачечкой листовок завладел и начал мелко крошить их на части. В некоей задумчивости. Важной, должно быть.
Сестренка поскуливала.
Чадил черный дымный султан над станцией.
– Das ist die Ruhe von den Sturm. – Это тишина перед бурей, – проговорил, точно ребят не было, кивнув в сторону развалин города, полулежавший офицер.
– Ja, nemlich. – Да, именно, – лениво подтвердил другой.
Они угадали. Напророчили. Немедленно обрушился сверху соединенный гул моторов, мощная стрельба: это совсем неожиданно с южной стороны, откуда никто не ждал, залетели понизу советские штурмовики. Сейчас запоздало забухают зенитки, затрещат наземные пулеметы; вспыхнут вверху дымные, разлетающиеся у пола снарядных разрывов; зашелестят, взорвутся бомбы, засвистят каленые осколки. Нужно моментально прятаться. Лечь на землю. Втиснуться в нее. Не счесть, сколько раз такое уже было с ребятами. И снарядам нашим постоянно кланялись, считали, где перелет, где недолет, где сторонкой ушло… Но какая-то радостно звенящая сила прямила и удерживала Антона, – он лишь чуть присел от грома праведного рядом с Верочкой: ведь на крыльях штурмовиков сияла красная звезда! Ого! До нее рукой достать!
– Weq! Weq! – Прочь! Прочь! – пригнувшиеся офицеры с искаженными лицами только отмахнулись от них (и листовки их уже не интересовали) и тотчас же проворно-прытко поползли на корточках по стерне вокруг копны.
Антон же с Верочкой еще не вполне уверенные в том, что опять свободны, подняв пустую корзиночку, проворней уносили прочь: отсюда ноги.
– Сюда, сюда, – направлял Антон сестренку впереди себя по извилистой канавке, все глубевшей дальше, – хотелось под грохот налета побыстрее скрыться с офицерских глаз долой. Антон страшился возможного вероломства и, удаляясь от немцев, все оглядывался. – Ну, ну, успокойся. Уже всё. Не пугайся.
– Уф! За кузней, в поле, на немцев напоролись, – сказал Антон Наташе на пороге избы. – На трех их офицеров. Они у нас листовки отобрали. Жалко!..
– Где же, далеко? – сразу вспыхнула сестра.
– Да вон у стажков клеверных, – махнул он рукой.
XXVI
Наташа и по другому встревожилась – из-за опасности, так грозившей одному раненному советскому летчику, которому она в эти дни старалась помочь втайне от всех, кроме матери. Наташа набрела на него совсем случайно, незаметно для себя вклинившись по овражку, когда собирала для еды конский щавель, в разводья спеющей озимой ржи, подходившей вплотную к проселочной дороге. Лейтенант, бежавший неделю назад из концлагеря, был совершенно беспомощен, крайне худ и голоден. К тому же у него страшно гноилась рана на бедре, и он находился как в полузабытьи. И прежде всего Наташа постаралась перетащить его в наиболее укрытое и, значит, безопасное, на ее взгляд, место, туда, где рожь росла особенно густо и отличалась своей зеленотой (может, потому, что здесь было больше соли в почве). Сюда еще вела змеевидная поросшая зеленая канавка, по которой можно было уйти дальше, к лесу, или подойти ей, Наташе, незаметней; а кроме того тут и были всякие отводы, коридоры, по которым тоже, в случае чего, можно было пройти или проползти, не шевеля, не раздвигая рожь. Ведь повсюду по оврагам, склонам и высоткам лепились в окопах немцы, торчали за земляными валами их дальнобойные батареи, плевавшиеся вдаль снарядами, автомашины и прочая техника.
Не более, может, часа спустя она вновь появилась около лейтенанта – принесла ему поесть, белье и рубашку отцовскую на смену. Придя в себя, он обеспокоился; прежде всего он спросил с испугом, не проговорилась ли она еще кому, что нашла его во ржи. Скверно в таком положении ведь что: их могут выдать предатели, вот что. Надобно стеречься. Ибо низкие люди есть. В народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет. Проявится.
Наташа поклянулась – его успокоила:
– Чур, не протрепалась я, что вы, я открылась только маме – ей-то можно полностью довериться… Вот она прислала вам. Поешьте, подкрепитесь для начала… – и выложила ему лепешки ржаные и кусочки конского мяса, достаточно вкусного, сытного, дала кипяченой воды из фляги. И придирчиво следила потом за тем, чтобы он сразу, с голодухи, не набрасывался на прихваченную еду, – давала ему маленькими кусочками, которые он, прожевывая и глотая, запивал водой.
Затем Наташа, отчасти напрактиковавшаяся вынужденно, как ей пришлось, на уходе за многими уже больными – тифозниками, в том числе и красноармейцами, командовала потише:
– А сейчас, когда вы поели, давайте я забинтую вас. С листьями капустными. Мамка говорит: они вытянут весь скопившийся в ранах гной. Только тихо лежите, не стоните, чтобы нас не услышали. Сожмите зубы крепче… Так…
И стала ловко перевязывать его сами собой, казалось, снующими туда-сюда гибкими женскими пальцами. Даже подумала об этом с некоторым удивлением: вот училась на льновода, а вынуждена пока врачевать постоянно…
Дома очень ощутимым подспорьем в питании семьи в течение всей оккупации была всякая трава, начиная от лебеды и крапивы, потом – подраставшая ботва свеклы, щавель, конский щавель, мерзлый, неубранный перезимовавший в земле, картофель, даже жженный сахар, растекшийся по канавам, когда горели разбомбленные немцами продовольственные военные склады, и перемешанный с землей, песком и пр. Капустные листья, покуда еще не налились кочны, тоже учитывались в продуктовом рационе: они, измельченные, примешивались даже в хлеб – для очень экономного расходования скуднейшего наличия в доме зерна. Народ всяко приспосабливался жить, доходил до всего, раскидывая умом своим, – все годилось при временных тяготах, которые нужно было как-то пережить, коли они выпали…