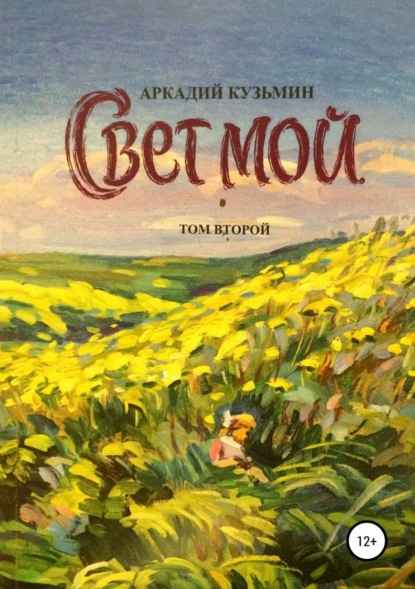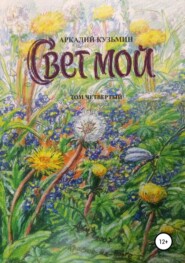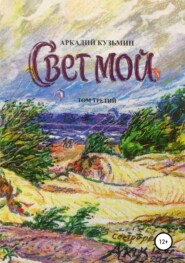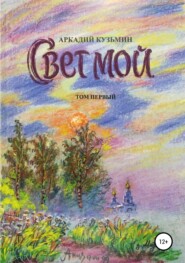По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Точно: втроем они – Толик и ссорившиеся с ним все чаще и между тем, несмотря на всю непримиримость, неразлучные с ним (по нужде и обстоятельствам) Валера и Антон – по октябрьскому мягко заснеженному первопутку (благо и пока еще колхозная Гнедая принадлежала и, стало быть, могла служить им в хозяйстве) приехали на розвальнях сюда, в лесок, за дровами. Чтобы выжить в немецкой оккупации, нужно было начинать с чего-то жить, хотя все окружающее, вместе с самим воздухом, казалось, стало уж совсем иным, чем прежде, – будто бы насмешливым, обманчивым, заведомо призрачным; хотя с прежней красочностью никли к земле пучки увядшей травы и кусты под снежным налетом, а над сонно стывшим перелеском сказочно вились, опускаясь, новые снежные пушинки; хотя умная с запалом лошадь по-прежнему легко катила их и широкие полозья дровней, оставляя за собой блестящие полозницы, приятно шелестели по твердому снегу; хотя всем им нравилось так ехать, полусидя на охапке подстеленной соломы и понукая изредка лошадку.
Неисправимый Толик (для него все было трын-трава, хоть кол на голове его теши), кинув окурок, разглагольствовал самонадеянно:
– Эх, пожить бы так годков, может, двадцать!…
– Ну, и что бы ты сделал? – с неприязненностью зацепил его тут Антон.
– Что? Многое: кой-что моя первейшая мечта – шикарный дом отгрохать, огородить его со всех сторон, чтобы не было к нему подступа ни для кого, и ворота поставить, да такие, чтобы, знаешь, можно было прямо к самому дому подъезжать на автомашине.
Братья Антон и Валера засмеялись.
Дудки! Сивый бред! Можешь не надеяться на это – скоро немцев все-таки турнут, турнут отсюда в зад коленкой!
– Черта с два!
– Да-да!
– Они – с могучей техникой; отлажена она у них на ять; они только потому и прут безостановочно, если знать хотите..
– Ну, еще посмотрим…
– А с Гнедой, я говорю, жить нам можно преотлично. Не тужить… Ну, вы поглядите ж, сколько мы дровишек наложили в дровни… Для себя же… Сами будем пользоваться этим, а не кто-нибудь еще… Фантастика…
Да и смолк Толя вдруг – оттого, что на подъеме проходившего стороной большака, за прореженной лесной комой, за железной дорогой, еще не действовавшей, зафырчал мотор автомашины и что она, выбеленная, малозаметная, взобравшись, тотчас резко стала почему-то. Приблизительно с километр белое расстояние отделяло ребят от машины, снежок легкий крапал, и сквозь тонкие штрихи ветвей было смутно видно, что из нее механически повыскочили живчики – тонкие темные фигурки немцев!
Незамедлительно затем раздались хлопки-выстрелы: бах! бах! бах! Но с чего бы вдруг? И там, вдали, будто кто-то споткнулся и упал. Или это показалось только?
Жуть взяла…
А назавтра братья, уже проезжая на дровнях мимо этой-то развилки с большаком, с содроганьем увидали, что на приснеженной горке лежал навзничь почернелый, закостенелый труп в знакомой шинели серой. Подняты колени, точно боец этот (пленный или окруженец) еще делал последнюю попытку подняться навстречу смерти; и отвесно к глухо затянутому небу поставлены грузные обнаженные руки с крепко сжатыми кулаками – выходило, он, и мертвый, слал проклятье вторгшимся убийцам.
Анне никак не понравился ответ среднего сына, определенно уклонившегося от какого-нибудь объяснения ей того, о чем они, он и Саша, уже дважды заводили странный – с недомолвками – разговор между собой; она оставила в себе надежду все же выяснить у них поласковей, что то означало, чтобы ей решить, нужно ль вмешиваться, рассудить все по-своему. Покрикивать на них, ребят, с тем, чтобы держать их, что называется в узде послушания, ей совсем не нужно было, нет, они и сами с полуслова понимали все, слушались ее с бесспорным, чистым, детским почитанием. Равно как, или больше, почитали и отца. У родителей они не росли ослушниками, не были разболтаны – этим дорожили. Прилаживались, чтоб нести ответственность.
Еще ладно, радовалась Анна, что поныне хоть она, одна родительница, была вместе с ними, детьми, и что они не потерялись, как бывает, друг от друга, – вместе-то начетней как-никак все вынесли, если, конечно, суждено им будет вынести, несмотря ни на что. И суть даже не в том, разумеется, что их посемейно, обступя, выгонял куда-то конвой уж немолодых – тотальных – немецких солдат, в кепках и что конвойные еще покрикивали, подгоняя, пытаясь еще нагнать страх на людей, а в том, что это выселение казалось всем страшней всего-всего; этого еще никто-никто не видел, не знал и не испытал подлиным образом. Одно знала Анна верно: многие из них, зацапанных в неволюшку, могли скорей поверить в гибель самых близких, родных людей, чем поверить в то, чтобы быть выселенными с Родины в какую-то постылую неметчину, и скорей уж могли погибнуть сами – от рук ли карателей, под советскими ли бомбами, снарядами, чем расстаться навек с домом, где родились, жили столько.
На новом дорожном спуске братья Кашины вновь, приладившись на полозья санок, покатились стоя вниз; по наклону сами скатились, управляемые, – к вящему неудовольствию шагавших спереди; из-за боязни быть подбитыми сзади передние невольно озирались, торопливо сторонились, пропуская, вследствие чего сбивались с взятого темпа хода, а потому и забранились на легкомысленных затейников катания. И были, конечно же, правы. Это скатыванье всем мешало все-таки.
– Анна, поуйми веселеньких своих – распустились шибко, ишь! – засипев , красно выголился весь тоже указующий ныне Семен Голихин, кто, помнится еще, умолительней других кликунов на последнем колхозном собрании, когда уже все работы в колхозе свернулись, упрашивал ее поставить именно ее самых исполнительных, смирных и надежных ребят на пастьбу коров… С грустью она поуняла сейчас естественную ребячью прыткость – также потому, чтобы Антон, Саша и Вера, бегая, не запарились, не простудились ненароком.
Но, по той же справедливости, несчастье резче обнажало суть в шагавших на каторгу взрослых людях, порою косных, неисправимых ни при каких чрезвычайных обстоятельствах, даже и несносно противных, ворчливых по сущим пустякам. Да, люди в общем-то редко возвышались. Хотя б в великодушии. На костер, наверное, пойдут такими кочерыжками. Только их не беспокойной ничем, не тревожьте ради бога. На большое – чуть приподняться над обыденщиной, привычками – часто духа у них не хватает, либо нет ума, не светит он. Заневолен. Или бережется для чего-то. Эгоистично.
А потом большак, мало защищаемый от ветра перелеском – вырубком, на протяжении, может, верст двух-трех неуклонно повышался, и, так как усиливалась непогода и ветер напористей, напевая и гудя, наскакивал и бил метелью шаг за шагом и стало тяжелей тянуть еще с собой и за собой малых и какой ни есть необходимый скарб.
Тем настойчивее занимала и поддерживала Анну неотвязная дума о том, чтобы в деревне Медведево, через которую их, по-видимому, пропихнут, не прозевать и порасспросить тамошних старожилов о Валере и Толе – куда тех погнали дальше. Такое неотложное желание, как оно явилось, несло ее над заносною дорогой.
Однако, неожиданно колонна, почему-то взял левей Медведево, повернула на старый, вовсе заметенный тракт – сюда, в не проездную целину, втерехалась.
Наносы наглухо прижали все следы; кругом только выла и гудела разноголосо метель, швыряясь встречь колючим снегом; он, пересыпаясь, что песок, шуршал сухо. По забучим заносам люди брели почти вслепую, плохо видя, лишь угадывая друг друга; брели все вывоженные в снегу – с головы до пят. Да, нелегко было пробиваться по такому зимнему бездорожью. А тащить навьюченные санки становилось совсем жарко, тяжеленько. И вот не щадящая никого метель выла, подвывала, танцуя, а детки, привязанные сидячими к санкам, – Танечка и Славик, и другие у кого, – тоже подвывали все сильней, все жалостней из этой метельной белой карусели: ножки болят, ручки болят. Не понимали они, конечно, того, что мерзли без движения, хотя и были закутаны в одеяла. И Верочка, которую Анна тащила за руку, тоже плакала: уже замучалась, устала очень, бедненькая. Снег был сыпуч – беда.
– Ну, потерпи еще немножко, потерпи же, девочка, – говорила Анна ей. – Надо себя пересилить. Как во время той болезни – тифа, помнишь? Ведь очухалась!… Помнишь?
– А-а-а… – тоненько пропищала Верочка, – я помню: ко мне песня про Катюшу припиявилась; и я все пела в тифу: «Расцветали яблони и груши». А ты ругала меня: «У-у, нелюбязь! Уймись! Глаза мои не глядели бы…» – И засмеялась.
– Думала: прискочат шелудивые черти… пела-то ты как в трубу на демонстрации. На всякую беду страху не напасешься. – Анна так заотчаялась из-за того, что обошли стороной Медведево, и сама тащилась еле-еле, как больная. Кроме усталости, сказывалось еще и систематическое недоедание: она все экономила из еды на себе – экономила ради здоровья детей. И внушала себе теперь: «Как споткнешься, так не встанешь, ни за что не встанешь уж».
Такова была действительность, от нее-то никуда не спрячешься. И не уйдешь. Не подсунешь за себя кого-нибудь другого, если бы кто и хотел подсунуться.
XVIII
– О, если б он только видел эти мытарства…
– Кто, мамуленька? – Наташа обернулась, отозвалась.
– Кто?! Отец ваш, доченька. Может, вправду, он уже погиб… Сложил голову… И напрасно я лелею мечту увидать его… Что везде твориться. Болит мое сердце. – На Анну опять нашла меланхолия, ее угнетало происходящее.
– Мама, не пророчь, не хнычь, пожалуйста, заранее, – оборвала дочь.
– Ну, как ты можешь, мам, так говорить! – возмутился и Антон – поражаюсь я…
– Я, сынок, могу… Я теперь все могу… – Анна всхлипнула разок-другой: накатило на нее.
Известно, уже многие лишились жизни. И лишились ее в том числе по вине предателей. Непонятно только, кем же Силин был – пребывал теперь при них, выселенцах? (Он попал ей на глаза). В каком чине-звании? Полицаем отставным? Вроде бы повеселел, сейчас он даже – был не очень каменно-сумрачным. Да, погибли уже многие, а он вот живехонек, радешенек, он, кто зарабатывал себе перед врагом чужой кровью это призрачное призвание, которое ему набредилось: «Ты ведь господин, не так ли?» Ничего ему не делается. Как же так?! Бог терпелив?! Или еще воздаст, воздаст должное и ему за все его клятвопреступные труды? Анна почему-то сильно сомневалась в этом.
Она, всхлипывая, полезла рукой в наружный карман шубы, стала доставать носовой платок – просто платяной доскуток; и тут нечаянно выронила из него знакомо исписанный тетрадный листок, сложенный угольничком натрое. Ветер подхватил, покатил листок по гладкой горбылине поля. И она, оставив Верочку, опрометью накинулась из колонны ловить его. Все случилось в мгновение ока. Всполошились все. Ай-ай!
–Xalt! Zuzuck! – Конвойный, оглянувшись туда, сорвал с плеч карабин и успел выстрелить. Но он выстрелил уже после того как Анна упала, опрокинутая ветровым порывом.
Антон и тетя Поля одновременно рванулись в нему, крича отчаянно:
– Xalt! Dort-papiz! papiz! Документы! – И Поля его чуть не разорвала в гневе.
Что-то он сообразил – и, изменив первоначальное решение, опустил свою послушную игрушку:
– Ynt! Komm her! (Хорошо. Иди сюда!)
Антон сразу не помня себя, подкатился к матери, поднял ее. Затем изловил трепещущий листок, зацепившийся за устойчивый в снежном плену, ершистый и дрожащий куст поповника, противостоявшего наскоку ветра и снега. И сказал, введя ее опять в колонну:
– Что же, мамушка, пугаешь нас? Под пули сунулась? Тебя не зацепило, я надеюсь?
– Оплошала, оплошала, дети, я, голова садовая – и с виноватой улыбкой прижимала к груди, как бесценную драгоценность, пойманный листок. – Последнее отцовское письмо с фронта… Страшно потерять…
Письмо от мужа было для нее словно охранной грамотой – для нее и ее детей.
– Подальше убери! Во внутренний карман.
И все, помаленьку отходя, над ней смилостивились. Хорошо, что обошлось.
Опять прозвучало: