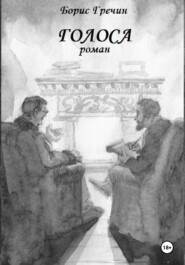По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русское зазеркалье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кэб по причине ремонтных работ в центре ехал долго, и у меня было время вернуться к своим воспоминаниям.
* *
Православная женская гимназия в областном центре оказалась, против ожидания, не таким уж «кислым» местом, какой я её вначале воображала, будучи, правда, заранее согласной на всё что угодно, лишь бы прочь из Лютово! То есть да, с внешней точки зрения всё было вполне предсказуемо и тоскливо: длинные унылые коридоры, высокие сводчатые потолки, высокие окна с широченными подоконниками, на которых вы, на ваше усмотрение, могли с подружкой сидеть хорошим весенним деньком, обмениваясь секретами, или стоять в полный рост глухой осенней ночью, думая, не шагнуть ли из окна третьего этажа. Третьего – потому что спальни были на третьем этаже: полуказарменного-полубольничного типа, по шесть, восемь, а где и по двенадцать коек в одном помещении, для личных вещей имелась прикроватная тумбочка. Общежитие, кстати, предоставлялось только иногородним. Спальни занимали почти весь третий этаж (в конце коридора – туалеты, душ и прачечная), классы и огромный актовый зал – второй, на первом находились гардероб, столовая (тоже немаленькая), учительская, кабинеты завучей и директора, медкабинет, библиотека, комната отдыха (в лучших традициях воинской части или советского санатория: телевизор и кресла по периметру), общая кладовая, кладовка для лыж, каморка дяди Паши, рабочего по обслуживанию здания. Ах да, забыла: имелась ещё домовая часовня, точнее, целый домовый храм: на третьем этаже, по центру здания, в башенке (или верней назвать её мезонином?), предусмотренной именно для домового храма при самой постройке здания лет сто назад. Я любила там бывать вне служб: вне служб там почти никогда никого не было.
Спортзал отсутствовал: осенью и весной мы занимались физкультурой на улице, зимой – тоже на улице, на лыжах, этой вечнозелёной радости советского и российского школьника, а в оттепель физкультурные занятия частенько и вовсе отменялись, наверное, исходя из рассуждения, что для будущей матушки всяческое махание ногами да скакание через «козла» – не самое главное дело. (Тут бы я, конечно, поспорила, но кто бы меня ещё послушал!) На школьном дворе имелась, правда, заасфальтированная площадка, грубый аналог стадиона, служившая как раз для занятий спортом, но при этом прямоугольная, не овальная, и лишенная всякой разметки; мы с мрачным юмором называли её «плацем». При мне на том же дворе начали строить спортзал, но наш класс им ни разу не воспользовался. Ради спортзала пришлось срубить часть яблонь в саду, который раньше занимал почти весь примыкающий к зданию участок, кроме «плаца», само собой. Мне было жалко эти яблони, но я, не по годам умненькая, приняла их уничтожение с грустным спокойствием, даже, помнится, отказалась подписывать коллективную петицию за их сохранение, которая одно время ходила по рукам в двух старших классах. Ничего из этой затеи всё равно не вышло… Участок окружался сплошным и довольно высоким кирпичным забором с единственными воротами. Итак, за исключением спортзала, женская гимназия была вполне себе «автономным кораблём»: мы, ученицы, могли проводить в здании месяц за месяцем и при этом даже не выходить на улицу.
Гимназия открылась за год до моего поступления: кажется, деньги на неё в равных долях давали областная епархия и один благочестивый московский олигарх, тот же самый, который профинансировал восстановление городского кафедрального собора. Цели её учреждения были самыми возвышенными: во-первых, обеспечить возможность получить качественное образование детям бедных сельских клириков (таких, как я, например: в этом смысле я вписывалась в задачи организации идеально), во-вторых, подготовить желающих благочестивых девушек к дальнейшему поступлению в женские православные институты, как и вообще к «карьере» православной матушки или, может быть, монахини. Предполагалось, что гимназия будет не просто хорошей, а даже очень хорошей школой, собравшей, за счёт надбавок к стандартному окладу, лучших учителей с города и области, что она сумеет утереть нос разнообразным светским учреждениям такого же типа, таким образом показав, на чьей стороне правда, и совершая живым примером качественного образования дело пропаганды православия. Начальной школы в гимназии не было, только средние и старшие классы.
Глядя на весь проект глазами моего теперешнего возраста, думаю, что идеализма и прожектёрства в нём имелось не меньше, чем практической необходимости. Вот, я закончила её, и закончила с отличием, а разве вышла из меня православная матушка? А моя мама никакой такой гимназии не заканчивала, а и закончила бы, это едва ли многое бы изменило. Смутно я подозревала даже тогда, в свои семнадцать лет, что не таким путём воспитываются матушки… А каким, впрочем, путём они воспитываются? Понятия не имею. Кидать камень в чужую идеалистическую затею или даже просто показывать на эту затею пальцем с идиотским смехом – вообще неблагородное дело. Основатели женской гимназии попробовали сделать нечто новое, верней, возродить на пустом месте хорошо забытое старое, и у них почти это получилось. Почти – потому что реальность вышла несколько более сомнительной и серой, чем была задумка. Но так ведь почти всегда бывает с задумкой и её воплощением, разве нет?
Кажется, через три года после моего выпуска гимназия то ли тихо перестала быть, то ли переехала куда-то на окраину, в более скромное здание, и съёжилась до двух старших классов. Я никогда не пыталась узнать точно, существует ли она теперь, и сейчас тоже не хочу – из какого-то близкого к ужасу суеверия, из которого люди ускоряют шаги рядом с домом, где жили раньше, или стремятся забыть само имя любимого раньше человека (вот и я имя Игоря почти уже позабыла, а пройдёт ещё время, и снова забуду). Некоторые, конечно, так не поступают, но это уже другая история. Не знаю, с чем связано это чувство: мы бежим от мест и людей, где и с кем были очень счастливы? – или очень несчастны? – или от тех, с кем допустили глупые ошибки, от тех, перед кем оказались нечаянно виноваты? Последнее, наверное, ближе всего к правде.
Я не была в гимназии ни очень счастлива, ни очень несчастна, потому что, как уже сказала, реальность оказалась где-то посередине между проектом идеально-благолепного православного воспиталища и моим незрелым представлением о том, каким должна быть хорошая школа. (Единого и устойчивого образа хорошей школы в моей головке, конечно, не было: в один день я представляла такую школу как некий архитектурный шедевр конструктивизма в духе двадцатых годов прошлого века, на стенах, крыше и внутри которого ученики будут творчески самовыражаться кто во что горазд, в другой день она виделась мне как строгий колледж в оксфордском стиле, с тёмными вековыми стенами, сводчатыми окнами, тишью библиотек и стрижеными лужайками: в такие дни женская гимназия совпадала с моим идеальным образом процентов на семьдесят. И всё же в семнадцать лет я была убеждена, что идеальную школу в принципе можно спроектировать, – мысль, которая сейчас мне кажется безнадёжно утопической.) Любую реальность в большей мере создают не стены, а люди. Конечно, древние стены и сами способны постепенно менять под себя людей… но нас, молодых девушек, было слишком много, и мы были слишком молоды, слишком живы, чтобы покорно переделываться под благовоспитанный образ святых сестёр.
Ситуация осложнялась тем, что многие – да почти все! – происходили из воцерковлённых семей, что с детства мы приняли в свой ум определённую систему координат, описывающую добро и зло, достойное и предосудительное, и что многие из нас к одиннадцатому классу успели занять место по ту или другую сторону этой системы координат, или решив воевать со злом мира вместе с ней, или решив бунтовать против неё. (Многие, сказала я, но едва ли большинство, а я, пожалуй, относилась к большинству.) Некоторые, конечно – как это водится испокон веку, – принимали не систему, а просто «правила игры», и в этой игре с самого начала стремились заработать репутацию самых послушных, надёжных и устойчивых пешек, чтобы после, кто знает, выйти в королевы. А на какую корону, то есть на какую особую православную карьеру может рассчитывать молодая девушка? Вариантов было не очень много… но тем слаще кому-то было помечтать об этих почти несбыточных вариантах. Стать чиновницей Московской патриархии, ответственной за контакт со Святым престолом, чтобы половину года проводить в Москве, а вторую – в Риме: как вам, нравится идея?
Другие, как я, свою дальнейшую карьеру с православием не связывали совсем – но помалкивали, не желая выделяться. Третьи, бунтарки, выделяться хотели и носили название «индивидуалисток», а в устах «ортодоксов» это были, предсказуемо, «скандалистки». (В нашем классе была лишь одна такая, а у десятиклассников – целых две.) Ах ну, да, конечно, демонстративно-православное крыло мы, общая масса, называли «благоверными» или «ортодоксами» (а они нас – «болотом»). Имелись в двух старших классах и другие группки, помельче, например, «блаженные»: две или три девочки настолько аскетически религиозные, настолько не от мира сего, что по молчаливому уговору их не трогали и ни во что не вовлекали, или «вадимопоклонницы» – о них позже. Ни одна из групп не пользовалась этими названиями в качестве самоназваний, конечно: «благоверные», что очевидно, себя не называли благоверными, а для нас, «болота», было бы странно самих себя называть болотом. Наша молодая энергия создавала фракции и группы по взаимной симпатии или антипатии, которые, само собой, рассыпались или меняли очертания через месяц-другой. Между нами вспыхивали быстро гаснущие ссоры, по бытовым вещам, но иногда по вопросам веры тоже, точней, по вопросам отношения веры к бытовым вещам. Страстные влюблённости между девочками тоже вспыхивали, и да, до «плотской близости» дело тоже иногда доходило: женская гимназия полузакрытого типа с общежитием – просто идеальный рассадник таких отношений. Откуда я это знаю? Кхм… Оставим пока за скобками. Какому-нибудь крупному церковному иерарху всё это наверняка показалось бы забавной вознёй простейших на лабораторном стекле – для нас это было нашим миром, и радовались, злились, огорчались, плели свои детские интрижки мы совершенно по-настоящему.
Странно, что всё бурление нашей молодой жизни почти никак не соприкасалось с нашими занятиями, шло параллельно им. Педсостав женской гимназии, как это сплошь и рядом бывает в школах в России, и сам почти полностью был женским, с большинством учителей – воцерковлёнными дамами, неизменно носившими длинную, в пол, юбку, и частенько – головной платок. (Мы и сами носили форму: одинаковые тёмно-серые платьица длиной до колена с белыми воротничками, нам тоже полагались косынки, которые, правда, в обиходе разрешалось не повязывать.) Невоцерковлённые педагоги практически все, за исключением литераторши, следовали типажу советской учительницы. А этот типаж я, кстати, считаю хорошим, правильным, его беда лишь в том, что его время ушло, потому что ушла страна, его создавшая. Все они, и «церковные дамы», и «советские женщины», за исключением молоденькой учительницы литературы, были женщинами в возрасте. Директором тоже была женщина: высокая и дородная немолодая матушка с немного заторможенными движениями, с большими, слегка сонными, навыкате, глазами, звали её Светлана Борисовна. Светлана Борисовна даже с ученицами говорила неизменно тихим голосом, потупив глаза, и напоминала женский вариант чеховского Человека в футляре, в том плане, что неизменно боялась, как бы чего не вышло. Настоящая власть, по крайней мере, возможность принимать все тактические решения, находилась в руках у завуча, Розы Марковны: немолодой, субтильной, очень решительной, очень быстрой, и по внешнему виду – не очень-то и православной, что вызывало у «благоверных» глухое недоумение. (Но, между прочим, это именно Роза Марковна каждый день подливала масло в лампадку в домовом храме. Однажды утром я зашла туда, прогуливая физику по причине полного равнодушия к предмету, а официально – под предлогом «женской слабости»: в «эти дни» при совсем уж плохом самочувствии на уроки негласно разрешалось не ходить – и тут как раз вошла завуч с бутылкой лампадного масла в руке. Мы встретились глазами, и она мне улыбнулась, а про моё отсутствие на уроках даже ничего и не спросила.)
Всех наших учителей мы побаивались, уважали (или нет), но не испытывали к ним никаких особенных чувств и даже не обращали к тому, что они нам говорили, никакую значимую часть своего ума. Да и скажите, пожалуйста, каким образом девушка шестнадцати-семнадцати лет должна закону Ома для участка цепи, или сложным полимерам, или десятичным логарифмам, или экономической географии Африки посвятить значимую часть своего ума? Девичий ум вообще строится по иным силовым линиям – когда и кто это поймёт, наконец?
Имелись из этого правила три исключения. Первое – Виктория Денисовна, наша молоденькая словесница. Ей, кажется, даже тридцати не было. (Как забавно: мой собственный теперешний возраст! Но я-то себя чувствую гораздо более… зрелой? – попросту более старой женщиной. Интересно, какой она виделась себе самой?) Ошиблась: нашей словеснице и двадцати восьми не было: что-то двадцать четыре. К сожалению, именно в силу её молодости, открытости, приветливости её уроки не производили того впечатления, которое заслуживали. «Благоверные» считали Викторию Денисовну, с её юбками выше колена или, изредка, блузкой с глубоким вырезом, откровенно неправославной женщиной, и поэтому на всю её науку поглядывали свысока. «Индивидуалистки» не желали литераторшу воспринимать всерьёз, потому что она сама в каком-то смысле являлась индивидуалисткой, а ведь нет ничего неприятней, чем смотреться в кривое зеркало – или, может быть, чем кривому смотреться в зеркало, особенно если видишь в этом зеркале свою улучшенную копию. Мы, «болото», или глухо завидовали её молодости, красоте, откровенной женственности, которую сами не имели никакой возможности проявить, или видели в ней такую же, как мы, пешку, просто прошедшую на несколько клеток дальше, и прагматично оценивали, примеряли её жизнь к себе: значит, через пять-семь лет одна из возможностей (рассуждали мы, в том числе и я) – стать «учительшей», так хорошо это или плохо? Вероятно, где-нибудь в мужском кадетском классе или военном училище Виктория Денисовна пользовалась бы большим вниманием или большей симпатией. Это, правда, не обязательно хорошо сказалось бы на усвоении предмета… (Интересно, как устроен мужской мозг? Может ли юноша или мужчина посвятить всё внимание лекции, когда отвлекается на аппетитную фигурку преподавателя? У кого бы мне это ещё спросить: не у своих учеников же? И, это самое, насчёт своей «аппетитной фигурки» я, интересно, не льщу ли себе?) Прекрасно всё это понимая, чувствуя, Виктория Денисовна даже и не стремилась настаивать ни на каком внешнем уважении: назови её кто-то из учениц просто по имени, она бы и тут, кажется, не обиделась. Всем своим видом молодая учительница будто говорила нам: «Вы не считаете меня учительницей, видите во мне просто женщину, существо вашего же рода? Да, я существо вашего рода, но более сильное, успешное, и зубастое – ну-ка, справьтесь со мной!» В любом случае, наша литераторша нас провоцировала, умела иногда зацепить – или разозлить какой-нибудь прямой и простодушной репликой, что педагогу тоже порой полезно делать; с ней не было скучно, она была живой, а это ведь так здорово, так ценно, думали молодые и глупые мы, на фоне «ходячих учебников»! (И вновь, глазами моего теперешнего возраста: какими прямолинейными, до ограниченности, мы были! Безусловно, хорошо, когда учитель – живой, но должен ли он жить перед классом «на разрыв аорты» и каждый урок устраивать бесплатное цирковое представление? Что, к примеру, одушевляло мистера Китинга из «Общества мёртвых поэтов», с его неимоверной живостью: любовь к предмету, любовь к детям? Если так, то снимаю шляпу: я в качестве педагога, по шкале его живости, не такая уж и живая – и даже не очень тороплюсь…)
Вторым исключением был, само собой, отец Вадим: тридцатилетний преподаватель Закона Божия, который также по воскресеньям исповедовал и служил литургию в нашем маленьком домовом храме. Отец Вадим говорил приятным бархатистым баритоном, а глядел на вас добрыми и кроткими «лучистыми» глазами. Само собой, что в старших классах полдюжины девочек сохло по этому баритону и этим глазам, без всякой надежды, конечно: отец Вадим являлся примерным семьянином. Я не входила в число «вадимопоклонниц» (кроткие мужчины не совсем в моём вкусе), но уроки Закона Божия мне, пожалуй, нравились… нет, не так: не вызывали внутреннего протеста. Вызывали порой желание спорить – но спорить с этим добрым человеком и его убаюкивающим голосом не хотелось. Добрый человек излагал официальную, простую как воинский устав, точку зрения церковных властей на предметы колоссального размера, исключительно сложные и едва ли вообще вместимые в человеческий ум, включая церковный ум, но сам он этой точки зрения то ли благообразно придерживался, то ли даже всем сердцем разделял эту нехитрую солдатскую веру, и у меня поэтому не появлялось ни малейшего желания пополнять число «скандалисток». На воскресную службу я тоже пару раз пришла – но после этих двух раз отказалась на неё ходить, потому что…
Потому что вокруг домового храма бурлили просто шекспировские страсти! В храме из-за его тесноты, кроме самого священника, помещалось десять, много дюжина учениц. «Вадимопоклонницы», что очевидно, никак не могли пропустить ни одной литургии – и даже больше литургии их волновала предшествующая службе исповедь, в которой, как ни крути, имелся интимный, почти эротический момент. (Ужас, ужас, правда? Но я просто пишу о том, что наблюдала сама или чем со мной делились: ни малейшего желания бросать тень на богослужебную практику или нравы Русской православной церкви у меня не имеется.) «Ортодоксы», с другой стороны, считали, что присутствовать на службе – их святое право православных христианок, а к «вадимопоклонницам» относились к нескрываемым презрением, с почти физической брезгливостью, ведь те маскировали свой интерес к службе религиозностью: постеснялись бы хоть! «Благоверные» были многочисленнее – а «вадимопоклонницы» энергичнее, верней, истеричнее: они меньше стеснялись в выражениях. Ситуация осложнялась тем, что пара «ортодоксальных» девочек, как знать, и сами тайно вздыхали по отцу Вадиму, но обнаружить это, конечно, боялись. Ну и, разумеется, «блаженные» тоже хотели ходить на службы, и их было обидеть – словно ребёнка ударить. В воскресенье прямо в коридоре третьего этажа вспыхивали порой не очень красивые сцены в стиле «Женщина, вас тут не стояло!». Не так грубо, конечно: звучало это как «Батюшка не благословляет опаздывать и создавать толпу на богослужении, Оля! – Да, а ещё батюшка не благословляет осуждать ближнего, Маша, осуждающим ближнего посылаются скорби!» И так далее, и тому подобное. Всё это происходило на виду у честного народа: у всех прочих воспитанниц, которые, например, шли из душа или в своё дежурство помогали прачке менять постельное бельё, потому что, напоминаю, спальни тоже находились на третьем этаже. Мне просто посчастливилось побывать на первых двух службах, на самую первую, кроме меня, и вовсе пришли только две девочки. А уже с третьей недели сентября начались склоки за места и «предварительная запись», авторитет и необходимость которой половина «прихода» не признавала (возможно, и справедливо не признавала, ведь литургия – это не колбаса). Нет, нет, только не это всё! – думала я с ужасом и возмущением. Так не должно быть, как угодно, но не так! («Бедный батюшка! – думаю я теперь. – Какое искушение представляли для него все эти девичьи масляные глазки! Но каждый несёт свой крест. И что значит “не так”, как должно быть “так”? Дай мне кто прямо сейчас, в теперешнем моём возрасте, власть директора гимназии, даже власть “серого кардинала” при правящем архиерее, я бы разве обустроила всё лучше?») А в семнадцать лет я себя успокаивала: лучше дойду до кафедрального собора (тот был в пятнадцати минутах ходьбы от нас). Один-единственный раз я до него действительно дошла, но почувствовала там себя совсем одиноко, совсем не на своём месте – стоит ли говорить, что этот раз был последним?
Третьим исключением стал английский язык, но лишь со второй учебной четверти. А в первой четверти я, умненькая, амбициозная и даже считающая, будто понимаю кое-что про духовный мир, всё искала своё место в православии. Кроме того, и здравый смысл этого требовал, надо было определяться, учась в православной гимназии, где я, с кем я, к кому принадлежу. Не находилось мне места в православии, не складывались у меня с ним отношения… Вместо православия сложились отношения с Наташей.
Наташу я заприметила ещё первого сентября на торжественном построении на «плацу»: высокая, ладная, фигуристая девушка, с роскошным хвостом чёрных волос, с выразительным, но немного грубоватым лицом, с тяжёлым, чисто мужским взглядом. Из такой девушки может получиться олимпийская чемпионка, может – любовница миллионера, может – лидер оппозиционной политической партии или феминистического движения: в семнадцать лет перед человеком все дороги открыты. Наташа тоже на меня смотрела… На лестнице, догнав меня, она спросила с характерной для неё прямотой:
– Ты кто?
Я назвала своё имя, Наташа – своё, и продолжала смотреть мне в глаза этим прямым открытым взглядом, так что я даже слегка поёжилась. Мы, кажется, остановились.
– У тебя очень чистые глаза, – вдруг сказала Наташа, несообразно с прошлым коротким разговором, но она никогда не заботилась о том, что с чем сообразно. – Невинные.
– Спасибо, – поблагодарила я. – Насчёт невинности: ты знаешь, я ведь не очень… православный человек.
Наташа прыснула со смеху:
– Больно нужно! Тебе помочь донести сумку?
От помощи я отказалась: было в этом что-то немного обидное, будто меня признавали несамостоятельной. Обидное, но и… лестное. Вот Игорь бы мне не предложил донести сумку…
Кровати в спальне мы выбрали рядышком, рядом сели в столовой, да и вообще, подружились с первого часа. В этой дружбе был с Наташиной стороны оттенок покровительственности, но не снисходительной покровительственности, а такой… защитной, что ли. Наташа Яковлева, эта кавалерист-девица, эта современная Надежда Дурова, всем своим видом обещала защищать своих подруг. Правда, у неё так и не появилось других подруг… И да, не только видом: она мне в самый первый день пообещала меня защищать. Я обиделась: я себя вовсе не считала размазнёй, и, кроме того, услышала в этом предложении намёк на её превосходство. Наташа крайне сухо заявила, что если так, она со мной и разговаривать не собирается. Подумав часа два, я сменила гнев на милость и передала ей на уроке записку с лаконичной благодарностью. Наташа в ответ принялась писать и написала мне целое маленькое письмо, немного бессвязное, о том, что, мол, не хотела меня обидеть, что я очень умненькая девочка, которая наверняка сумеет за себя постоять, что один ум хорошо, а два лучше, что её предложение было от чистого сердца, потому что ей кажется, будто я не такая, как все, особая… Я читала и только что не мурлыкала от удовольствия: Наташа знала, на какие пружинки нажать. Мир был восстановлен. Мария Глебовна сделала нам замечание за нашу активную переписку, а ко мне обратилась совершенно по-учительски:
– Встань, пожалуйста. Может быть, ты нам прочитаешь вслух то, что там так интересно?
Я встала. Наташа тоже поднялась с места:
– Мария Глебовна, это писала я. Может быть, мне прочитать это вслух?
В её голосе было так много бесшабашности, такое восхитительное nonchalance
(не знаю, как ёмко перевести это слово), что Мария Глебовна, почувствовав в воздухе запах скандала, только рукой махнула:
– Садитесь обе… Минус один балл обеим за этот урок.
Как будто нам это было важно! Вот Наташа уже и принялась меня защищать, при том с первого дня без всякого труда заработав репутацию «скандалистки». Мне сложно сопротивляться, когда кто-то сильный и уверенный начинает обо мне заботиться, я сразу таю, так вот я глупо устроена…
(Кстати, своей принадлежностью к «левому крылу» Наташа гордилась и всячески его подчёркивала всеми возможными способами: то соорудит какую-нибудь невозможную причёску, то прицепит на платье какой-нибудь невероятный значок, причём с вывертом значок, например, «Православие или смерть» – и череп со скрещёнными костями, или «Христос – моя защита», стилизованное под арабскую вязь, так что каждому ясно, что откровенная дикость, но при этом не придерёшься. Учителя кривились, но помалкивали.)
Ночью, уже за полночь, Наташа меня разбудила:
– Вставай, соня! Не хочешь посплетничать?
Мы обе забрались на широкий подоконник с ногами, предварительно постелив одеяло, и принялись шёпотом сплетничать, то есть, на самом деле, делиться своими жизненными историями. Я всё время ловила на себе её взгляд: глубокий, проникающий, почти волнующий. Было мне и лестно, и тревожно: смутно я уже догадывалась, чем это всё может закончиться, хотя внешне всё пока оставалось в рамках приличий.
– Ты… ты так странно на меня смотришь! – призналась я наконец.
– Я тебе говорила уже: потому что ты особенная.
– Тася, перестань! Это всё лесть, а я не совсем дурочка. Это в Лютово у себя я была особенная, а здесь за первый день поняла, что не такая уж я и особенная.
– «Тася» – это хорошо, это мне нравится, – одобрила она. – Но только не при всех, а наедине, ладно? При всех «Наташа». Потому что какая же я Тася?
Я подавилась смешком:
– Действительно, никакая…
– Ты здесь поняла, что не такая уж и особенная – и тебе обидно, да? – продолжала Наташа. – Это тоже хорошо. Нет, я не про таланты, а вот… ты неиспорченная. Даже в плане мальчиков: то, что у тебя было – это вообще детский сад. И не было, считай, ничего.
– Неиспорченная, значит… Мне так не кажется.
– А мне кажется.
– Надеюсь, ты… не хочешь меня никак… испортить? – спросила я, замирая.
Наташа довольно рассмеялась и, наклонившись ко мне, легко чмокнула меня в щёку. А после, как можно догадаться…
~ ~
– We have arrived, madam!
Вот так вот: расвспоминаешься – а тебе на самом интересном месте: ‘We have arrived, madam!’ Спасибо, что уж там…
Другие электронные книги автора Борис Сергеевич Гречин
Голоса




 0
0