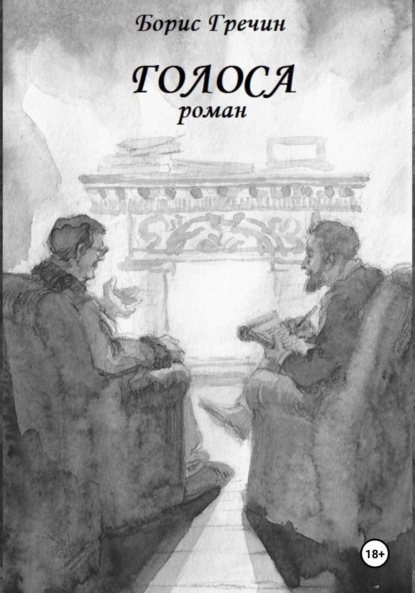По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
[22]
– Итак, – рассказывал руководитель проекта, – я заглянул на нашу кафедру, но никого на ней не нашёл. Вообще, весь факультет как вымер: в тот день все студенты с четвёртого сдвоенного занятия были сняты на какую-то внеочередную лекцию в актовом зале. Я спустился в вестибюль первого этажа – и там действительно обнаружил Алексея на одном из сидений неподалёку от входа. Я присел рядом и осторожно спросил его:
«Вы хотели со мной поговорить, Алёша?»
Алёша кивнул, потерянно огляделся кругом. Заодно уж добавлю пару штрихов к его портрету, так как не знаю, представится ли случай дальше. Чистое, простое лицо, несколько крестьянское, но очень миловидное, длинные ресницы, светлые несколько непослушные волосы. Ему бы косоворотку да свирель в руки, был бы настоящий Лель из «Снегурочки» Островского. Внешне впечатление было, надо сказать, обманчивым: Алексей вопреки своей внешности при разговоре производил впечатление человека юного, но умного, вдумчивого. А также – безусловно сдержанного и равнодушного к вульгарным соблазнам нашего века, так что догадка Лизы о том, что он, пожалуй, до сих пор ни с одной девушкой не познакомился, что называется, близко, оказывалась не совсем невероятной. Даже поражал его и облик, и характер, не сам по себе, но – столь контрастный с две тысячи четырнадцатым годом, столь не ко времени в этом году. Итак, юноша немного растерянно осмотрелся.
«Мы можем пойти на нашу кафедру», – предложил я.
«Нет, на кафедру не нужно, но, Андрей Михайлович, может быть, в аудиторию, где вы были? Все ведь ушли?»
«Думаю, да, – подтвердил я. – Суд окончился».
«Я так и понял…» – хмуро протянул Алёша.
Итак, мы вернулись в учебную аудиторию и сели друг напротив друга, верней, сел я, а юноша, посидев немного, встал, подошёл к окну, приложил к губам сложенные молитвенным образом ладони.
«Марта после суда здесь же стояла», – невольно сказалось у меня.
«Мне очень стыдно за то, что я не поддержал её на суде, и выглядит это как бегство, трусливое бегство, но я просто не смог: даже смотреть на это физически больно, тем более участвовать, – ответил Алёша и обернулся ко мне: – Андрей Михайлович, я не могу больше! Это… это ведь святотатство! Что-то, близкое к святотатству».
«Что именно?»
«Эта игра – вся игра, любой театр».
«Вы ошибаетесь, Алёша, – возразил я с улыбкой. – Вам, кстати, известно, что Николай Александрович, ваш исторический визави, в молодости тоже участвовал в домашнем театре? Сохранилась фотография, на которой он – в образе Евгения Онегина, такой молодой, трогательный и безусый».
«Да? – поразился Алёша. – Я не знал… Ну всё равно: ему можно, он же играл Онегина, а не… а не самого себя. Потому что понарошку это играть нельзя, нет смысла, а по-настоящему… Вы ведь Марту, сегодня, наверное, довели до слёз? Не вы лично, а группа?»
«Да, вы, к сожалению, угадали!» – подтвердил я.
«Я этого и боялся… Я сегодня прожил только три минуты жизни Помазанника, то есть ещё даже до его венчания на царство, и вчера не больше, а уже весь выжат, как… как жмых. Вот видите, даже слова говорю первые, какие придут в голову, не выбираю, потому что не выбираются. Как он выдерживал не три минуты, и не шесть, а всю жизнь? Я не имею права им быть, Андрей Михайлович, не имею права».
«Да почему же?!»
«Потому что не стою вровень, – пояснил Алексей. – Что там вровень! И вчетвертьровень не стою. А совсем не потому, что театр дурён сам по себе. Я принимаю вашу задумку, даже восхищаюсь. Это так ново по сравнению с тем, что мы делаем обычно, в этом – источник свежих сил. Но, скажите, я очень вас подведу, вы очень на меня обидитесь, если я откажусь быть Помазанником? – Алёша повторно использовал это слово, естественное в устах священника полтораста лет назад, но такое непривычное сегодня и в устах двадцатиоднолетнего человека. – Григорий Лепс, – продолжил он, – поёт это своё “Я крещён, а может быть, помазан”, не замечая, как смешно выглядит его “может быть”. Ты или помазан, или нет, а “может быть, помазан” – это как “немного беременна”. Я возьму любого другого персонажа, – поспешил он добавить, чтобы пояснить, видимо, что это его решение – не блажь и не прихоть. – Любого, кого назовёте».
Я вздохнул, и мы немного помолчали. Переубеждать его, видимо, не имело смысла, да и что можно было возразить ему по существу?
«Вам бы подошёл кто-то из духовенства, – предложил я. – Или из русских религиозных философов».
«Скорее, из первого, – согласился юноша. – Те, вторые, слишком умствовали, блуждали в трёх соснах. Да, я охотно…»
«В любом случае, я благодарен вам за уже сделанное, Алёша: я видел, что вся ваша душа восставала, но вы мужественно исполняли свою службу», – поблагодарил я его.
«Вы, кстати, единственный, кто меня называет Алёшей, то есть через “А” в уменьшительном имени, – заметил юноша. – Такая милая и изящная отсылка к Фёдор-Михалычу, я ценю…»
«Всегда пожалуйста. Ах, кстати! – оживился я. – Ведь я, чего греха таить, надеялся, что вы через вашу роль сойдётесь с Мартой, то есть не планировал специально, но если бы сложилось… Вы не обижаетесь?»
Алёша коротко рассмеялся. Пояснил:
«Нет, я не обижаюсь! Это трогательно, и Марта мне почти симпатична. Её молодая любовь меня сегодня обожгла, хотя совсем и не мне предназначалась. Только ведь это тоже м?ка: отвергать любовь молодой девушки, заставлять её страдать, потому что долг Помазанника не позволяет быть с ней. В любом случае, не надейтесь на нас слишком, я не могу обещать, что сложится. Наследник уже расстался с Матильдой, теперь встречаться с ней будет просто бесчестно».
«Но вы только что сняли с себя корону! – запротестовал я. – Так, значит, перед вами нет никаких преград!»
«Я её, как вы помните, даже не надел, – с юмором ответил мне Алёша, видимо, вспоминая распределение ролей в прошлую пятницу и шутливую попытку Лизы его «короновать». – Да, я уже не он. Ну, и какой Матильде тогда во мне интерес?»
«А я ведь передал ей письмо от вас», – признался я вдруг.
«От меня?» – поразился Алёша.
«От Государя: то последнее, которое она потеряла. Может быть, учитывая это, вы ещё передумаете?»
Алексей медленно и задумчиво повёл головой из стороны в сторону.
Я пожал ему руку, и мы попрощались до нового дня.
[23]
– Так и не найдя Настю в университете, я вечером вторника, закончив все дела, решил, что стоит мне ей хотя бы позвонить и рассказать произошедшее за день. С другой стороны, это произошедшее укладывалось едва ли не в четыре слова: «Алёша не принял престола». Даже, если подумать, в два слова: «Алёша отрёкся».
Эти два слова я в итоге и отправил своей аспирантке в виде короткого сообщения.
Я предполагал, что она, движимая женским любопытством, позвонит мне, чтобы расспросить о подробностях, да хоть просто прояснить смысл моей не совсем ясной фразы, и мы немного поболтаем. Но Настя решила переписываться и ответила мне тоже сообщением, видимо, с некоторой иронией:
А кто наследует?
«Понятия не имею», – написал я.
Настя затихла, и я думал, что на этом мы закончили переписку. Прошло минуты четыре – и вдруг от неё прилетело выразительное и загадочное:
Your Sun is rising – & to-morrow it will shine so brightly.
– Как-как? – поразился автор этого романа.
Андрей Михайлович повторил сообщение и пояснил:
– And было написано через амперсанд
, а to-morrow – через дефис.
– Орфография начала прошлого века? – догадался я.
– Верно! – подтвердил историк. – Правда, к своему стыду, я этого не понял сразу, даром что писал в своё время диплом по этой теме. Смотрел на это предложение как баран на новые ворота, пока не сообразил: это ведь цитата из письма Александры Фёдоровны! От двадцать второго августа тысяча девятьсот пятнадцатого.
– Вы даже помните дату?
– Да, потому что это был день принятия Государем верховного главнокомандования, – пояснил Могилёв. – Единственное отличие только и имелось в том, что в подлинном письме вместо to-morrow стояло to-day, тоже через дефис, и глагол был в настоящем времени.