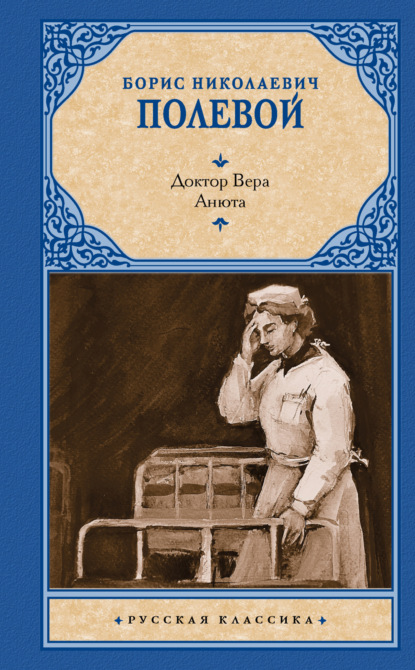По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Доктор Вера. Анюта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, Пелагея батьковна, замуж будешь выходить, на свадьбу позовешь. Зашили мы твои дырки на совесть. И фрица благодари – он тебя аккуратно прострелил, ничего серьезного не задел. Вот какой добрый фриц попался. Федосье вон накажи за его здоровье молебен справить…
– Спасибо, – шепчут бледные губы.
– Счастливочко.
Тетя Феня и Домка увозят каталку с больной, а у меня все еще не прошло радостное ощущение удачи.
– Как все здорово у вас, Иван Аристархович!
– Руки, – самодовольно произносит он. И разводит пальцы, как два веера. – У вас – диплом, голова, а у меня – руки. – И усмехается в моржовые усы. – А вы меня брать не хотели.
– Иван Аристархович, с чего вы взяли? – бормочу я, чувствуя, как кровь бросается мне в лицо.
– Не краснейте, я привык. – Он прислюнил свою цигарку и остатки табака ссыпал в кисет. При этом я опять обратила внимание, что пальцы у него толстые, короткие, а руки-лапы кажутся неуклюжими. А вот во время операции я просто влюбилась в эти его руки. И мне теперь стыдно гнусной подозрительности, которую я испытала утром, когда этот человек предложил нам свои услуги. Ну какое мне дело, была ли у его отца мельница двадцать пять лет назад? Да, Семен, человека надо ценить не по тому, что о нем говорят, и не по тому, что записано в его анкете, а по тому, что и как он делает. Ведь так? Я же помню твои слова: коммунизм – это расцвет человеческой личности в коллективе, это взаимная помощь, взаимное доброжелательство, взаимное доверие. Ну, и общая ненависть к врагу, конечно. Но ведь к врагу, именно к врагу, только к врагу.
Наседкин пробыл у нас до ужина. Напяливая свою старомодную шубу на полысевшем хорьковом меху с тощими хвостиками, он спросил:
– Ну, так когда начинаем рабочий день, товарищ шпитальлейтерин?
– Как обычно, в девять, Иван Аристархович.
– В девять? – Он подумал. – В девять поздно. Приду в восемь. Счастливо оставаться. – И ушел, спокойный, деловитый, обычный, унося с собой свой акушерский чемоданчик.
Только тут, сунувшись за носовым платком и почувствовав в кармане что-то холодное и жесткое, я вспомнила об этом самом «бефеле», оставленном Прусаком. Это официальная бумага городской комендатуры, напечатанная на русском языке. «Бефель» – приказ. Оказывается, я теперь не только шпитальлейтерин, но и шеф-артц, то есть главный врач гражданского госпиталя, и мне, на основе распоряжения какого-то там имперского уполномоченного, надлежит содержать вверенный мне госпиталь в чистоте и порядке, тщательно регистрировать каждого поступающего, а в случае, если среди них окажутся большевики и особенно комиссары, а также люди еврейской или цыганской крови, я обязана немедленно сообщить об этом в третий отдел штадткомендатуры. Жалкое оборудование наше, которое мы насобирали в руинах, оказывается, собственность какого-то вермахта, и за сохранность его я тоже отвечаю. Ну, а в конце большими буквами напечатано: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени».
Вот, Семен, как обстоят дела. Ты знаешь, что я решила? Спрятать эту бумагу и никому из наших не показывать. Зачем говорить людям, что они живут под топором? Вот только я-то знаю, что надо мной висит топор… Ну, ничего, ничего, как-нибудь.
Наркотиков у нас чертовски мало. Но я полагаю, что сегодня имею право на двойную дозу. Надо же мне уснуть.
8
Знаешь, Семен, кем оказался тот, кого принесли на носилках ночью? Эта Антонинища так мне тогда и не сказала. Но он сам рекомендовался:
– Сухохлебов Василий Харитонович. Полковник.
У него тяжелая контузия. Очень мучается. Стараемся с помощью наркотиков держать его в состоянии полусна. Впрочем, у него не поймешь, спит или бодрствует. Но я уже научилась различать: когда бодрствует, лежит тихо, с закрытыми глазами, а во сне начинает метаться, стонет, командует: «Выбросьте роту из резерва на правый фланг…», «Аэродром не сдавать, держать до последнего…», «Левого соседа на провод…» Впрочем, и бодрствуя, он иногда, забывшись, разговаривает сам с собой. Такая у него, должно быть, привычка. Но тогда уж слов не разберешь.
Странные у него отношения с этой Антониной. Все свободное время она вертится около его койки, ловит каждое движение, то подушку поправит, то одеяло подоткнет. Он относится к ней с ласковой шутливостью, как и к моим ребятам. На меня она волком смотрит, должно быть, из-за этого парня, из-за Мудрика, которому я влепила пощечину. Тетя Феня, это наше госпитальное Совинформбюро, уже как-то прознала, что он будто бы суженый Антонины. Впрочем, что она вкладывает в понятие «суженый», так и осталось неустановленным.
А я сейчас вдруг поймала себя на странной мысли, что этот Сухохлебов напоминает тебя, Семен.
Вообще-то трудно себе и представить двух более непохожих людей, чем вы. Ты – коренастый, плотный, как гриб подосиновик. У тебя широкое, полное лицо. Сухохлебов высок, костист да еще к тому же носат. Кажется, взяли его когда-то за голову и за ноги и долго тянули, а потом потащили за нос. Руки у него длинные, худые, на них обозначились вспухшие вены.
У тебя, Семен, как у всех блондинов, отдающих в рыжину, кожа светлая, даже розовая, у него смугловатая, тусклая, покрытая сероватой щетиной, а на лбу и у глаз морщины. Но когда он улыбается, – а он, несмотря на тяжелое свое состояние, улыбается нередко, – морщины укладываются так уютно и весело, что он сразу будто молодеет.
Внешне вы совсем разные люди и все же чем-то похожи. А чем – не знаю и понять не могу. Он молчалив, но его не назовешь нелюдимым. Наоборот, со всеми ходячими он уже в дружбе. Ребята наши в нем души не чают. А вот разговорить его трудно: «да», «нет» – и все. Наседкин после обхода присаживается на его койку именно «помолчать». Молчать они могут долго, думая каждый о своем.
Понемножку и Антонина, кажется, начала опускать свои иголки. Рассказала мне, что он командовал их дивизией, в составе которой они с боями отступали от границы. Дивизия имела приказ оборонять наш город, заняла оборону, но так как укрепиться не успела, понесла большие потери. Выясняется, что и город наш не бежал в панике, как мне мерещилось, когда я стояла у моста, наблюдая беженцев. Дивизия Сухохлебова, прикрывая отход, все-таки задержала немцев где-то у аэродрома и пионерских лагерей, в тех самых местах, Семен, где мы с тобой гуляли по выходным с ребятишками. Теперь я поняла, почему там грохотала артиллерия. Пока Сухохлебов там сражался, за реку подтягивались свежие части. Они-то и остановили немцев. Вот какова, оказывается, была картина. Там, у аэродрома, где-то на командном пункте, разорвавшийся рядом снаряд засыпал Сухохлебова. Его откопали, привели в себя, но эвакуировать не успели, танки немцев уже ворвались в город. Антонина и этот Мудрик, воевавшие с ним с самой Латвии, спрятали его в каком-то сарае, а ночью перенесли на «Большевичку», в одну из рабочих спален, а оттуда к нам.
Антонина – санинструктор из его медсанбата, а этот Мудрик – какой-то разведчик и будто бы даже «язычник», то есть специалист по ловле «языков». Впрочем, эта Антонина, несмотря на свою детскую внешность, не так уж проста. О Мудрике явно что-то недоговаривает. Но какое мне, в сущности, до этого дело?
Мудрик появляется у нас не часто. Он обитает где-то в городе, куда мы без крайней надобности не выходим, и, по-видимому, ведет ночную жизнь, о которой нам ничего не известно. Во всяком случае, у нас он появляется только с темнотой, с наступлением комендантского часа. Меня он всячески избегает. Тихо проскользнет к койке Сухохлебова и шушукается с ним. Потом отправляется к Марии Григорьевне, с которой у него тоже завелись дела. Она припрятывает для него миску нашего знаменитого «супа рататуй», хлеб, берет в стирку и штопку его белье, и я догадываюсь, что не без помощи этого ловкача у нас стали появляться в рационе, хотя и в микродозах, хотя лишь для самых тяжелых, такие продукты, как сливочное масло, колбаса и даже яйца.
Я тоже стараюсь его не замечать. Но вчера из-за своих шкафов невольно подслушала его разговор с тетей Феней.
– Да скажи, Христа ради, откуда это у тебя, мил человек? Мы и вкус его позабыли, шоколада, – допрашивала снедаемая любопытством старуха.
– А мы, почтеннейшая, цирковые иллюзионисты. Ор-ригинальнейший жанр. Мы берем шляпу системы цилиндр, ставим на стол – айн, цвай, драй, как говорит фюрер, – и вынимаем из-под нее кролика, отличного кролика… Полтора кило мяса, не считая ушей.
– Так что же ты, работаешь у них, что ли? – допытывается неутомимое наше Совинформбюро.
– «Работаешь»? Мне больно слышать такие слова, мамаша. Знаете, какие стихи однажды про меня написал в городе Николаеве один мастер-куплетист в стенгазете «Лонжа»: «В еде он очень был проворен, ну а в труде наоборот…» «Работаешь»? Нет, почтеннейшая, Гитлер с Вовчика Мудрика не разжиреет. Ловкость рук – и никакого мошенства.
С Антониной у него тоже своеобразные отношения. Иногда, спустившись к нам, он, не заходя в палату, свистит с порога в три такта – два коротких и третий длинный, оттянутый, что-то вроде «фю-фю-фью-у-у!». Тем же негромким свистом откликается Антонина. Если она не на дежурстве, быстро одевается и исчезает с ним.
– Это у них особый свист, – пояснила мне Сталька, страшная сплетница, обладающая к тому же способностью запоминать чужие фразы и даже передавать их с соблюдением интонации. – Международный язык мастеров цирка. – И тут же довольно ловко воспроизвела: – Фю-фю – фью-у-у!
Мы с Мудриком почти не встречаемся, а когда он попадается мне навстречу и разминуться невозможно, он насмешливо вытягивается, бросает руку к козырьку и проходит мимо гусиным шагом, будто перед знаменем. Больные помирают со смеху. Но я не сержусь. Чувствую себя виноватой. Да и вообще он, кажется, славный парень. Как-то попробовала даже перед ним извиниться.
– Не надо слов, – остановил он меня величественным, театральным жестом. – Начальников надо уважать: рабочий и крестьянин трудятся двумя руками, интеллигенция – тремя пальцами и головой, а начальство – одним перстом указующим. Это ценить надо. – И, картинно откозыряв, сделал налево кругом.
Мария Григорьевна в этом Мудрике души не чает, тетя Феня следит за ним с обожанием, а Антонина услышит его свист и вспыхивает, как костер. Так, что огромные ее веснушки перестают быть заметными. И если при этом она занята, уйти с ним нельзя, все у нее начинает из рук валиться.
Я составила расписание дежурств: три сестры, по восемь часов каждая. Оно висит на стене моего «кабинета», пришпиленное к одному из шкафов. Когда у Антонины ночное дежурство, мы этого «фю-фю» не слышим. Ну, а когда она свободна, ее не удержишь. Неизвестно только, как они избегают немецких патрулей. Возвращается она ночью, и я слышу, как, стараясь пробраться незаметной, натыкается в темноте на койки, гремит табуреткой и как потом стонет сетка койки под тяжестью этой массивной девицы. Сухохлебов добродушно поддразнивает Антонину Мудриком, и у той не только лицо, но шея и руки краснеют…
И все же чем же этот Сухохлебов похож на тебя, Семен? Наш Домка – неплохой шахматист. На кружочках от пластыря он нарисовал шахматные фигурки, и вот сейчас они разыгрывают очередную партию. Домка, видимо, попал в трудное положение – хмурится, трет лоб, сопит. Вот Сухохлебов сделал какой-то ход, мальчишка удивленно смотрит на доску. Вскочил. В сердцах плюет на пол. Проиграл. Сухохлебов улыбается всеми своими морщинками, потирает руки. Счастлив, будто выиграл не у мальчишки, а у какого-нибудь Капабланки или Ботвинника, что ли… Постойте, граждане, а может быть, вот эта самая улыбка, которая, не трогая губ, все время живет в уголках его большого рта, и делает его похожим на тебя, Семен? Ну да, ну да! Ты тоже этак вот незаметно улыбаешься.
Конечно же, общее у вас – юмор. Вчера было так: тетя Феня, чрезвычайно гордая тем, что Сухохлебов называет ее не «няня», а «сестрица», пожаловалась ему на запоры, которые в последнее время мучают больных. Торчавший рядом брат милосердия с высоты своего медицинского авторитета изрек: «Каков стол, таков и стул». И когда до Сухохлебова дошел медицинский смысл этого изречения, он так захохотал, что под ним застонала койка. Хохотал звонко, по-мальчишески, взахлеб, вытирая с глаз слезы. Это умение смеяться и, смеясь, радоваться – это тоже твое, Семен.
Ну вот, теперь я раскусила, а то все смотрю на этого дядьку, даже перед больными стыдно.
И все-то он видит, во всем разбирается. Вот, например, пришла Мария Григорьевна расстроенная. Докладывает: скверное дело – из кладовки пропадает сливочное масло, которое мы бережем для самых тяжелых и выдаем им микродозами, чтобы подольше растянуть. Ломаем головы, кто способен на такую подлость. Сегодня она подкараулила: Зина Богданова, мать Василька. Застала на месте, когда та отрезала кусок от бруса. Меня это просто потрясло. Мы ей доверились, приняли к себе сиделкой, кормим наравне со всеми, а она… Главное – в такое время. Я велела ей сейчас же убираться из госпиталя. Немедленно. Тете Фене, попробовавшей было за нее заступиться, тоже попало. Узнал об этом Сухохлебов, подозвал меня и мягко сказал:
– А вы, доктор Вера, поинтересовались, куда она это масло девает?
– Да для Васятки, для Васятки своего, – ворвалась в разговор тетя Феня. – Я сама видела, как она его подкармливала. Говорит, будто на какие-то там серьги выменяла… Серьги? Были у нее когда-нибудь серьги?
– Ну вот, видите, – только и произнес Сухохлебов.
Мне стало стыдно.
– Тетя Феня, – попросила я, – она на «Большевичке», кажется, в сорок восьмой, живет? Сходите за ней, поищите.
– А и ходить некуда, она вон, во дворе, возле двери плачет.
– Как во дворе? С тех пор? В такой мороз? – Мне стало даже страшно.
– А как же, мать ведь, – подтвердила старуха. – Сучку вон и то от больного щенка палкой не отгонишь.
– Спасибо, – шепчут бледные губы.
– Счастливочко.
Тетя Феня и Домка увозят каталку с больной, а у меня все еще не прошло радостное ощущение удачи.
– Как все здорово у вас, Иван Аристархович!
– Руки, – самодовольно произносит он. И разводит пальцы, как два веера. – У вас – диплом, голова, а у меня – руки. – И усмехается в моржовые усы. – А вы меня брать не хотели.
– Иван Аристархович, с чего вы взяли? – бормочу я, чувствуя, как кровь бросается мне в лицо.
– Не краснейте, я привык. – Он прислюнил свою цигарку и остатки табака ссыпал в кисет. При этом я опять обратила внимание, что пальцы у него толстые, короткие, а руки-лапы кажутся неуклюжими. А вот во время операции я просто влюбилась в эти его руки. И мне теперь стыдно гнусной подозрительности, которую я испытала утром, когда этот человек предложил нам свои услуги. Ну какое мне дело, была ли у его отца мельница двадцать пять лет назад? Да, Семен, человека надо ценить не по тому, что о нем говорят, и не по тому, что записано в его анкете, а по тому, что и как он делает. Ведь так? Я же помню твои слова: коммунизм – это расцвет человеческой личности в коллективе, это взаимная помощь, взаимное доброжелательство, взаимное доверие. Ну, и общая ненависть к врагу, конечно. Но ведь к врагу, именно к врагу, только к врагу.
Наседкин пробыл у нас до ужина. Напяливая свою старомодную шубу на полысевшем хорьковом меху с тощими хвостиками, он спросил:
– Ну, так когда начинаем рабочий день, товарищ шпитальлейтерин?
– Как обычно, в девять, Иван Аристархович.
– В девять? – Он подумал. – В девять поздно. Приду в восемь. Счастливо оставаться. – И ушел, спокойный, деловитый, обычный, унося с собой свой акушерский чемоданчик.
Только тут, сунувшись за носовым платком и почувствовав в кармане что-то холодное и жесткое, я вспомнила об этом самом «бефеле», оставленном Прусаком. Это официальная бумага городской комендатуры, напечатанная на русском языке. «Бефель» – приказ. Оказывается, я теперь не только шпитальлейтерин, но и шеф-артц, то есть главный врач гражданского госпиталя, и мне, на основе распоряжения какого-то там имперского уполномоченного, надлежит содержать вверенный мне госпиталь в чистоте и порядке, тщательно регистрировать каждого поступающего, а в случае, если среди них окажутся большевики и особенно комиссары, а также люди еврейской или цыганской крови, я обязана немедленно сообщить об этом в третий отдел штадткомендатуры. Жалкое оборудование наше, которое мы насобирали в руинах, оказывается, собственность какого-то вермахта, и за сохранность его я тоже отвечаю. Ну, а в конце большими буквами напечатано: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени».
Вот, Семен, как обстоят дела. Ты знаешь, что я решила? Спрятать эту бумагу и никому из наших не показывать. Зачем говорить людям, что они живут под топором? Вот только я-то знаю, что надо мной висит топор… Ну, ничего, ничего, как-нибудь.
Наркотиков у нас чертовски мало. Но я полагаю, что сегодня имею право на двойную дозу. Надо же мне уснуть.
8
Знаешь, Семен, кем оказался тот, кого принесли на носилках ночью? Эта Антонинища так мне тогда и не сказала. Но он сам рекомендовался:
– Сухохлебов Василий Харитонович. Полковник.
У него тяжелая контузия. Очень мучается. Стараемся с помощью наркотиков держать его в состоянии полусна. Впрочем, у него не поймешь, спит или бодрствует. Но я уже научилась различать: когда бодрствует, лежит тихо, с закрытыми глазами, а во сне начинает метаться, стонет, командует: «Выбросьте роту из резерва на правый фланг…», «Аэродром не сдавать, держать до последнего…», «Левого соседа на провод…» Впрочем, и бодрствуя, он иногда, забывшись, разговаривает сам с собой. Такая у него, должно быть, привычка. Но тогда уж слов не разберешь.
Странные у него отношения с этой Антониной. Все свободное время она вертится около его койки, ловит каждое движение, то подушку поправит, то одеяло подоткнет. Он относится к ней с ласковой шутливостью, как и к моим ребятам. На меня она волком смотрит, должно быть, из-за этого парня, из-за Мудрика, которому я влепила пощечину. Тетя Феня, это наше госпитальное Совинформбюро, уже как-то прознала, что он будто бы суженый Антонины. Впрочем, что она вкладывает в понятие «суженый», так и осталось неустановленным.
А я сейчас вдруг поймала себя на странной мысли, что этот Сухохлебов напоминает тебя, Семен.
Вообще-то трудно себе и представить двух более непохожих людей, чем вы. Ты – коренастый, плотный, как гриб подосиновик. У тебя широкое, полное лицо. Сухохлебов высок, костист да еще к тому же носат. Кажется, взяли его когда-то за голову и за ноги и долго тянули, а потом потащили за нос. Руки у него длинные, худые, на них обозначились вспухшие вены.
У тебя, Семен, как у всех блондинов, отдающих в рыжину, кожа светлая, даже розовая, у него смугловатая, тусклая, покрытая сероватой щетиной, а на лбу и у глаз морщины. Но когда он улыбается, – а он, несмотря на тяжелое свое состояние, улыбается нередко, – морщины укладываются так уютно и весело, что он сразу будто молодеет.
Внешне вы совсем разные люди и все же чем-то похожи. А чем – не знаю и понять не могу. Он молчалив, но его не назовешь нелюдимым. Наоборот, со всеми ходячими он уже в дружбе. Ребята наши в нем души не чают. А вот разговорить его трудно: «да», «нет» – и все. Наседкин после обхода присаживается на его койку именно «помолчать». Молчать они могут долго, думая каждый о своем.
Понемножку и Антонина, кажется, начала опускать свои иголки. Рассказала мне, что он командовал их дивизией, в составе которой они с боями отступали от границы. Дивизия имела приказ оборонять наш город, заняла оборону, но так как укрепиться не успела, понесла большие потери. Выясняется, что и город наш не бежал в панике, как мне мерещилось, когда я стояла у моста, наблюдая беженцев. Дивизия Сухохлебова, прикрывая отход, все-таки задержала немцев где-то у аэродрома и пионерских лагерей, в тех самых местах, Семен, где мы с тобой гуляли по выходным с ребятишками. Теперь я поняла, почему там грохотала артиллерия. Пока Сухохлебов там сражался, за реку подтягивались свежие части. Они-то и остановили немцев. Вот какова, оказывается, была картина. Там, у аэродрома, где-то на командном пункте, разорвавшийся рядом снаряд засыпал Сухохлебова. Его откопали, привели в себя, но эвакуировать не успели, танки немцев уже ворвались в город. Антонина и этот Мудрик, воевавшие с ним с самой Латвии, спрятали его в каком-то сарае, а ночью перенесли на «Большевичку», в одну из рабочих спален, а оттуда к нам.
Антонина – санинструктор из его медсанбата, а этот Мудрик – какой-то разведчик и будто бы даже «язычник», то есть специалист по ловле «языков». Впрочем, эта Антонина, несмотря на свою детскую внешность, не так уж проста. О Мудрике явно что-то недоговаривает. Но какое мне, в сущности, до этого дело?
Мудрик появляется у нас не часто. Он обитает где-то в городе, куда мы без крайней надобности не выходим, и, по-видимому, ведет ночную жизнь, о которой нам ничего не известно. Во всяком случае, у нас он появляется только с темнотой, с наступлением комендантского часа. Меня он всячески избегает. Тихо проскользнет к койке Сухохлебова и шушукается с ним. Потом отправляется к Марии Григорьевне, с которой у него тоже завелись дела. Она припрятывает для него миску нашего знаменитого «супа рататуй», хлеб, берет в стирку и штопку его белье, и я догадываюсь, что не без помощи этого ловкача у нас стали появляться в рационе, хотя и в микродозах, хотя лишь для самых тяжелых, такие продукты, как сливочное масло, колбаса и даже яйца.
Я тоже стараюсь его не замечать. Но вчера из-за своих шкафов невольно подслушала его разговор с тетей Феней.
– Да скажи, Христа ради, откуда это у тебя, мил человек? Мы и вкус его позабыли, шоколада, – допрашивала снедаемая любопытством старуха.
– А мы, почтеннейшая, цирковые иллюзионисты. Ор-ригинальнейший жанр. Мы берем шляпу системы цилиндр, ставим на стол – айн, цвай, драй, как говорит фюрер, – и вынимаем из-под нее кролика, отличного кролика… Полтора кило мяса, не считая ушей.
– Так что же ты, работаешь у них, что ли? – допытывается неутомимое наше Совинформбюро.
– «Работаешь»? Мне больно слышать такие слова, мамаша. Знаете, какие стихи однажды про меня написал в городе Николаеве один мастер-куплетист в стенгазете «Лонжа»: «В еде он очень был проворен, ну а в труде наоборот…» «Работаешь»? Нет, почтеннейшая, Гитлер с Вовчика Мудрика не разжиреет. Ловкость рук – и никакого мошенства.
С Антониной у него тоже своеобразные отношения. Иногда, спустившись к нам, он, не заходя в палату, свистит с порога в три такта – два коротких и третий длинный, оттянутый, что-то вроде «фю-фю-фью-у-у!». Тем же негромким свистом откликается Антонина. Если она не на дежурстве, быстро одевается и исчезает с ним.
– Это у них особый свист, – пояснила мне Сталька, страшная сплетница, обладающая к тому же способностью запоминать чужие фразы и даже передавать их с соблюдением интонации. – Международный язык мастеров цирка. – И тут же довольно ловко воспроизвела: – Фю-фю – фью-у-у!
Мы с Мудриком почти не встречаемся, а когда он попадается мне навстречу и разминуться невозможно, он насмешливо вытягивается, бросает руку к козырьку и проходит мимо гусиным шагом, будто перед знаменем. Больные помирают со смеху. Но я не сержусь. Чувствую себя виноватой. Да и вообще он, кажется, славный парень. Как-то попробовала даже перед ним извиниться.
– Не надо слов, – остановил он меня величественным, театральным жестом. – Начальников надо уважать: рабочий и крестьянин трудятся двумя руками, интеллигенция – тремя пальцами и головой, а начальство – одним перстом указующим. Это ценить надо. – И, картинно откозыряв, сделал налево кругом.
Мария Григорьевна в этом Мудрике души не чает, тетя Феня следит за ним с обожанием, а Антонина услышит его свист и вспыхивает, как костер. Так, что огромные ее веснушки перестают быть заметными. И если при этом она занята, уйти с ним нельзя, все у нее начинает из рук валиться.
Я составила расписание дежурств: три сестры, по восемь часов каждая. Оно висит на стене моего «кабинета», пришпиленное к одному из шкафов. Когда у Антонины ночное дежурство, мы этого «фю-фю» не слышим. Ну, а когда она свободна, ее не удержишь. Неизвестно только, как они избегают немецких патрулей. Возвращается она ночью, и я слышу, как, стараясь пробраться незаметной, натыкается в темноте на койки, гремит табуреткой и как потом стонет сетка койки под тяжестью этой массивной девицы. Сухохлебов добродушно поддразнивает Антонину Мудриком, и у той не только лицо, но шея и руки краснеют…
И все же чем же этот Сухохлебов похож на тебя, Семен? Наш Домка – неплохой шахматист. На кружочках от пластыря он нарисовал шахматные фигурки, и вот сейчас они разыгрывают очередную партию. Домка, видимо, попал в трудное положение – хмурится, трет лоб, сопит. Вот Сухохлебов сделал какой-то ход, мальчишка удивленно смотрит на доску. Вскочил. В сердцах плюет на пол. Проиграл. Сухохлебов улыбается всеми своими морщинками, потирает руки. Счастлив, будто выиграл не у мальчишки, а у какого-нибудь Капабланки или Ботвинника, что ли… Постойте, граждане, а может быть, вот эта самая улыбка, которая, не трогая губ, все время живет в уголках его большого рта, и делает его похожим на тебя, Семен? Ну да, ну да! Ты тоже этак вот незаметно улыбаешься.
Конечно же, общее у вас – юмор. Вчера было так: тетя Феня, чрезвычайно гордая тем, что Сухохлебов называет ее не «няня», а «сестрица», пожаловалась ему на запоры, которые в последнее время мучают больных. Торчавший рядом брат милосердия с высоты своего медицинского авторитета изрек: «Каков стол, таков и стул». И когда до Сухохлебова дошел медицинский смысл этого изречения, он так захохотал, что под ним застонала койка. Хохотал звонко, по-мальчишески, взахлеб, вытирая с глаз слезы. Это умение смеяться и, смеясь, радоваться – это тоже твое, Семен.
Ну вот, теперь я раскусила, а то все смотрю на этого дядьку, даже перед больными стыдно.
И все-то он видит, во всем разбирается. Вот, например, пришла Мария Григорьевна расстроенная. Докладывает: скверное дело – из кладовки пропадает сливочное масло, которое мы бережем для самых тяжелых и выдаем им микродозами, чтобы подольше растянуть. Ломаем головы, кто способен на такую подлость. Сегодня она подкараулила: Зина Богданова, мать Василька. Застала на месте, когда та отрезала кусок от бруса. Меня это просто потрясло. Мы ей доверились, приняли к себе сиделкой, кормим наравне со всеми, а она… Главное – в такое время. Я велела ей сейчас же убираться из госпиталя. Немедленно. Тете Фене, попробовавшей было за нее заступиться, тоже попало. Узнал об этом Сухохлебов, подозвал меня и мягко сказал:
– А вы, доктор Вера, поинтересовались, куда она это масло девает?
– Да для Васятки, для Васятки своего, – ворвалась в разговор тетя Феня. – Я сама видела, как она его подкармливала. Говорит, будто на какие-то там серьги выменяла… Серьги? Были у нее когда-нибудь серьги?
– Ну вот, видите, – только и произнес Сухохлебов.
Мне стало стыдно.
– Тетя Феня, – попросила я, – она на «Большевичке», кажется, в сорок восьмой, живет? Сходите за ней, поищите.
– А и ходить некуда, она вон, во дворе, возле двери плачет.
– Как во дворе? С тех пор? В такой мороз? – Мне стало даже страшно.
– А как же, мать ведь, – подтвердила старуха. – Сучку вон и то от больного щенка палкой не отгонишь.