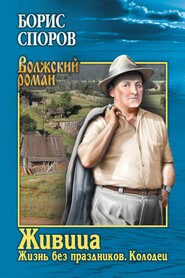По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Перекати-моё-поле
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Митя
Ни обуви крепкой, ни плаща у Мити не было. А дожди уже холодные сеяли и сеяли. Митя приходил из школы промокший и бледный. Иногда он еле волочил ноги, а дома, кроме маминой слезливости, ничего не было. Мне и теперь кажется, что Митю понимал только я. Он был, без сомнения, одаренным, но одаренности его родители даже не замечали. Отец единственное что мог сказать:
– Я в твои годы уже работал…
Вскоре Митя заболел: кроме простуды, у него болели ноги, наверное, тоже застудил. Правда, дней через десять он уже выправился и окреп, но как-то вечером решительно заявил, что в школу ходить не будет. Отец возмущался и негодовал – я до сих пор не могу понять его возмущения. А мама плакала, ничего другого придумать она и не могла. До сих пор помню, как я старался в душе своей оправдать родителей, пытался и отстраниться, не замечать происходящего, но ведь видел же я, как Митя, укрывшись, беспомощно плакал.
Все решилось в один день: я пришел из школы – Митя был уже собран в дорогу. В то время охотно загребали в рабочий класс всех, кто попадался под руку. По деревням разъезжали агенты, агитировали подростков в ремесленные училища, в ФЗУ[27 - ФЗУ – фабрично-заводское ученичество.]. Деревенские вдовы смотрели на агитаторов, как на черных воронов, прятали своих чад от разбойников, не соглашаясь ни на какие переговоры. Наша родительница пришла сама:
– Возьмите моего сына в ремесленное училище.
И даже видавший виды агент вытаращил глаза:
– Вы же не голодаете! – в конце концов воскликнул он.
– Сейчас – нет.
– Да он у вас инвалид! Как он будет работать токарем или слесарем?
– Возьмите…
И человек, наверное, понял – неладное в семье. И согласился.
Только тогда мама известила отца. Он пришел уже при мне, и я видел его недобрую усмешку:
– Что, Димитрий, в люди собрался? Ну, давай, – и подал руку, но даже не обнял сына.
Мы с мамой пошли проводить Митю. У вербовщика была лошадь, запряженная в бричку, в которой уже сидело трое горемык, четвертый – Митя – и сидеть не мог в бричке, только полулежа.
Из Правления колхоза вышел агент. Мама обняла Митю:
– Не осуждай, сынок, там тебе будет лучше – ты понимаешь все, – и слезы, всюду спасительные слезы.
И мы с братом обнялись, и я всхлипнул, но Митя сказал:
– Не надо, Сережа… Дорога-то у нас одна: сегодня я, а завтра – ты.
Подошла Валя-товарка. Она застенчиво отвела взгляд и сказала, передавая газетный пакет с орехами:
– Возьми, Митя, в дороге и погрызешь…
Вербовщик отвязал вожжи, сел на грядку телеги, причмокнув, развернул лошадь на проселок… Прощай, Митя, – жизнь снова нас разлучила.
Моя крепость
Когда у отца случалось мирное настроение, вечером, чтобы выпроводить нас из горницы – от стола и керосиновой лампы, он, присвистнув, кричал:
– Сарынь, на печку!
Мы хватали учебники – и убегали. Второй лампы не было, да и керосин на строгом учете. Но была у нас лампадка – такие мы делали во время войны и называли их коптилками.
Русская печь – удивительное изобретение. Это одно из мировых чудес! В печи можно сварить что угодно и для скотины, и для себя, для семьи, поджарить, потушить, испечь пироги и хлеб форменный, и на поду[28 - На поду – на нижней поверхности печи, без формы.] лучше, чем в любой пекарне. И весь день все горячее. Обогрев жилья и сушилка для одежды и обуви. На печи и лежанка на троих. Укрываться необязательно, но обязательно стелить под бока: внутри огонь, топка, и кирпичи иногда так раскаляются, что можно получить ожог. Но уж и болезни выпаривает русская печь лучше любого лекарства. И что удивительно, на печи не бывает душно… Между задней стенкой печи и стеной дома свободное место: сюда временно помещали отелившегося теленка, потому что во дворе зимой он может застудиться, да и сосать корове вымя теленку не дают.
Мы засвечивали на плечике коптилку, и Митя читал вслух книгу, тогда я уже пользовался школьной библиотекой. Книжки читали бездарные, пропагандистские. Из всего прочитанного на печи запомнился один «Дерсу Узала». Впечатление, видимо, было сильное, так что отец опять же под настроение дразнил меня Дерсу…
И вот не стало Мити – появилась тоска одиночества. Все реже я зажигал коптилку, а если и зажигал, то скоро откладывал слепую книгу – и думал. С думой засыпал, с думой и просыпался. Именно в ту первую послевоенную зиму особенно развилось во мне сознательное воображение: достаточно было представить Митю в ремеслухе, на Волге, в затоне имени Парижской коммуны, как в моем воображении рисовались десятки фантастических картин и действий. И это было интересно, нередко я жил этим – мой мир, куда никто не вторгался.
Наиболее сладостное для меня время бывало утром – полчаса, час, пока я просыпался под стукоток ухватов и чугунков в печи или под гул огня в тяге и потрескивание горящих поленьев. Со страхом вдруг представлялось: подо мной раскаленный свод, огонь! Но тотчас успокаивала мысль: ведь там хозяйничает мама, и уж она-то не даст меня в обиду, а если начнут рушиться кирпичи, она предупредит, крикнет.
Но нередко и утром бывало тошно: мама топила печь и плакала – или обидел отец, или вспомнила что-то, или стало невыносимо жить – устала в тридцать шесть лет. Но в любом случае – она плакала, и я переставал быть полусонным ребенком, становился военным малолетним мужичком, который все знает, все понимает – и даже тайны взрослых, и в неимоверных страданиях переживает личные невзгоды и трагедии.
Днем я жил школой и деревней. А вечером, как мышь, затаившись на печи, я нередко погружался в родительские перепалки или заботы. Случалось, они мирно говорили о жизни – там был их мир, за занавеской, в горнице.
– Ты думаешь, я не вижу? Тянут все: черпают сыворотку, отвернись – черпают обрат; и Нюрка, и этот идиот (душевнобольной сторож, Миша Кирганов), тянут и творог, и молоко. Уволить – нет смысла, и другие будут не лучше.
– И не уследишь, – мама вздохнула. – Да и что толку, если и уследишь? Не от хорошей жизни…
– Им «не от хорошей», а я могу за растрату в Кандалакшу! Тоже не лучший баланс… Да и сами едим. А ведь все на учете: принял – сдал. Сыворотку – и ту колхоз забирает по квитанции.
– И считанных овец волк таскает.
– Во-во, ягишная баба!.. Посадят не тебя, а меня!
– Сразу не посадят – заставят возместить.
– Ну, хлоп тебя в лоб! А чем возмещать?! Да-да-да – вот об этом я и думаю… Надо поросенка заводить – на сыворотке и выпаивать, чтобы в любое время можно было покрыть растрату… Сегодня утром пощелкал костяшками – на полчушки уже недостача… Все, решил: с творогом поеду – привезу поросенка.
– Какой тебе поросенок, скоро уже резать будут… И опять на меня повесишь?
– Вот дура, а на кого же еще!..
В этом разговоре все было ясно, зато в другой раз я так и не понял их до конца.
– Зря ты отправила Митьку. Пусть бы и сидел здесь – поросят и выхаживал бы.
– Да ты и его затюкал бы…
– Сегодня слышу – бабы языками шлепают: «Сам пьет, а сына хромого в фэзуху спровадил».
– Правильно говорят – вот ты и слушай. А вырастут и твой, и Митя – иначе скажут, так что готовься.
– Уже вырос… А Митьке везде плохо будет – пусть привыкает…
– Приучал цыган кобылу к ременному кнуту, да подохла… Мы и виноваты, что он инвалид.
– Ну, если ты виновата, то и кайся, а мне – бир-бар!
– С лысого и взятки гладки.
Ни обуви крепкой, ни плаща у Мити не было. А дожди уже холодные сеяли и сеяли. Митя приходил из школы промокший и бледный. Иногда он еле волочил ноги, а дома, кроме маминой слезливости, ничего не было. Мне и теперь кажется, что Митю понимал только я. Он был, без сомнения, одаренным, но одаренности его родители даже не замечали. Отец единственное что мог сказать:
– Я в твои годы уже работал…
Вскоре Митя заболел: кроме простуды, у него болели ноги, наверное, тоже застудил. Правда, дней через десять он уже выправился и окреп, но как-то вечером решительно заявил, что в школу ходить не будет. Отец возмущался и негодовал – я до сих пор не могу понять его возмущения. А мама плакала, ничего другого придумать она и не могла. До сих пор помню, как я старался в душе своей оправдать родителей, пытался и отстраниться, не замечать происходящего, но ведь видел же я, как Митя, укрывшись, беспомощно плакал.
Все решилось в один день: я пришел из школы – Митя был уже собран в дорогу. В то время охотно загребали в рабочий класс всех, кто попадался под руку. По деревням разъезжали агенты, агитировали подростков в ремесленные училища, в ФЗУ[27 - ФЗУ – фабрично-заводское ученичество.]. Деревенские вдовы смотрели на агитаторов, как на черных воронов, прятали своих чад от разбойников, не соглашаясь ни на какие переговоры. Наша родительница пришла сама:
– Возьмите моего сына в ремесленное училище.
И даже видавший виды агент вытаращил глаза:
– Вы же не голодаете! – в конце концов воскликнул он.
– Сейчас – нет.
– Да он у вас инвалид! Как он будет работать токарем или слесарем?
– Возьмите…
И человек, наверное, понял – неладное в семье. И согласился.
Только тогда мама известила отца. Он пришел уже при мне, и я видел его недобрую усмешку:
– Что, Димитрий, в люди собрался? Ну, давай, – и подал руку, но даже не обнял сына.
Мы с мамой пошли проводить Митю. У вербовщика была лошадь, запряженная в бричку, в которой уже сидело трое горемык, четвертый – Митя – и сидеть не мог в бричке, только полулежа.
Из Правления колхоза вышел агент. Мама обняла Митю:
– Не осуждай, сынок, там тебе будет лучше – ты понимаешь все, – и слезы, всюду спасительные слезы.
И мы с братом обнялись, и я всхлипнул, но Митя сказал:
– Не надо, Сережа… Дорога-то у нас одна: сегодня я, а завтра – ты.
Подошла Валя-товарка. Она застенчиво отвела взгляд и сказала, передавая газетный пакет с орехами:
– Возьми, Митя, в дороге и погрызешь…
Вербовщик отвязал вожжи, сел на грядку телеги, причмокнув, развернул лошадь на проселок… Прощай, Митя, – жизнь снова нас разлучила.
Моя крепость
Когда у отца случалось мирное настроение, вечером, чтобы выпроводить нас из горницы – от стола и керосиновой лампы, он, присвистнув, кричал:
– Сарынь, на печку!
Мы хватали учебники – и убегали. Второй лампы не было, да и керосин на строгом учете. Но была у нас лампадка – такие мы делали во время войны и называли их коптилками.
Русская печь – удивительное изобретение. Это одно из мировых чудес! В печи можно сварить что угодно и для скотины, и для себя, для семьи, поджарить, потушить, испечь пироги и хлеб форменный, и на поду[28 - На поду – на нижней поверхности печи, без формы.] лучше, чем в любой пекарне. И весь день все горячее. Обогрев жилья и сушилка для одежды и обуви. На печи и лежанка на троих. Укрываться необязательно, но обязательно стелить под бока: внутри огонь, топка, и кирпичи иногда так раскаляются, что можно получить ожог. Но уж и болезни выпаривает русская печь лучше любого лекарства. И что удивительно, на печи не бывает душно… Между задней стенкой печи и стеной дома свободное место: сюда временно помещали отелившегося теленка, потому что во дворе зимой он может застудиться, да и сосать корове вымя теленку не дают.
Мы засвечивали на плечике коптилку, и Митя читал вслух книгу, тогда я уже пользовался школьной библиотекой. Книжки читали бездарные, пропагандистские. Из всего прочитанного на печи запомнился один «Дерсу Узала». Впечатление, видимо, было сильное, так что отец опять же под настроение дразнил меня Дерсу…
И вот не стало Мити – появилась тоска одиночества. Все реже я зажигал коптилку, а если и зажигал, то скоро откладывал слепую книгу – и думал. С думой засыпал, с думой и просыпался. Именно в ту первую послевоенную зиму особенно развилось во мне сознательное воображение: достаточно было представить Митю в ремеслухе, на Волге, в затоне имени Парижской коммуны, как в моем воображении рисовались десятки фантастических картин и действий. И это было интересно, нередко я жил этим – мой мир, куда никто не вторгался.
Наиболее сладостное для меня время бывало утром – полчаса, час, пока я просыпался под стукоток ухватов и чугунков в печи или под гул огня в тяге и потрескивание горящих поленьев. Со страхом вдруг представлялось: подо мной раскаленный свод, огонь! Но тотчас успокаивала мысль: ведь там хозяйничает мама, и уж она-то не даст меня в обиду, а если начнут рушиться кирпичи, она предупредит, крикнет.
Но нередко и утром бывало тошно: мама топила печь и плакала – или обидел отец, или вспомнила что-то, или стало невыносимо жить – устала в тридцать шесть лет. Но в любом случае – она плакала, и я переставал быть полусонным ребенком, становился военным малолетним мужичком, который все знает, все понимает – и даже тайны взрослых, и в неимоверных страданиях переживает личные невзгоды и трагедии.
Днем я жил школой и деревней. А вечером, как мышь, затаившись на печи, я нередко погружался в родительские перепалки или заботы. Случалось, они мирно говорили о жизни – там был их мир, за занавеской, в горнице.
– Ты думаешь, я не вижу? Тянут все: черпают сыворотку, отвернись – черпают обрат; и Нюрка, и этот идиот (душевнобольной сторож, Миша Кирганов), тянут и творог, и молоко. Уволить – нет смысла, и другие будут не лучше.
– И не уследишь, – мама вздохнула. – Да и что толку, если и уследишь? Не от хорошей жизни…
– Им «не от хорошей», а я могу за растрату в Кандалакшу! Тоже не лучший баланс… Да и сами едим. А ведь все на учете: принял – сдал. Сыворотку – и ту колхоз забирает по квитанции.
– И считанных овец волк таскает.
– Во-во, ягишная баба!.. Посадят не тебя, а меня!
– Сразу не посадят – заставят возместить.
– Ну, хлоп тебя в лоб! А чем возмещать?! Да-да-да – вот об этом я и думаю… Надо поросенка заводить – на сыворотке и выпаивать, чтобы в любое время можно было покрыть растрату… Сегодня утром пощелкал костяшками – на полчушки уже недостача… Все, решил: с творогом поеду – привезу поросенка.
– Какой тебе поросенок, скоро уже резать будут… И опять на меня повесишь?
– Вот дура, а на кого же еще!..
В этом разговоре все было ясно, зато в другой раз я так и не понял их до конца.
– Зря ты отправила Митьку. Пусть бы и сидел здесь – поросят и выхаживал бы.
– Да ты и его затюкал бы…
– Сегодня слышу – бабы языками шлепают: «Сам пьет, а сына хромого в фэзуху спровадил».
– Правильно говорят – вот ты и слушай. А вырастут и твой, и Митя – иначе скажут, так что готовься.
– Уже вырос… А Митьке везде плохо будет – пусть привыкает…
– Приучал цыган кобылу к ременному кнуту, да подохла… Мы и виноваты, что он инвалид.
– Ну, если ты виновата, то и кайся, а мне – бир-бар!
– С лысого и взятки гладки.