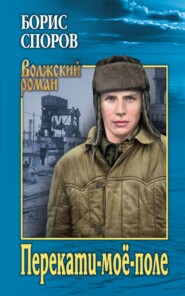По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Живица: Жизнь без праздников; Колодец
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ехать или нет – решать вам. Своё мнение – и это только мнение – я уже высказывал: ради детей – ехать. Вам все равно на хлеб зарабатывать – здесь, там. У них может появиться иной хлеб, хотя, конечно же, кто знает – и наши пути неисповедимые. – Алексей заметил, как Нина коротко глянула на него с жесткой усмешкой. Он прикрыл глаза, легонько вскинул перед собой сигарету, так что дым сложился в колечко, и продолжил, так и не прояснив себя: – О работе можете не думать – работа есть. Следовательно, главное – жилье. Лучше всего, тотчас бы и получить квартиру, но на заводе очередь – не пробьешься. Можно купить дом, но в городе такой будет стоить впятеро дороже. Можно перевезти этот дом. Но вряд ли стоит овчинка выделки: все на то же и выйдет. – Обреченно склонил Алексей голову, и над столом тотчас нависло уныние: ничего не получится. Но Алексей усмехнулся, открыл глаза – спокойный, уверенный, просветленный. И сестры в один момент то ли с гордостью, то ли с завистью подумали: вот за таким-то мужем как за каменной стеной прожить можно. – Вот я и подумал: а не купить ли вам плохенький домишко? Но домишко хитрый, перспективный. (И Нина поняла: а ведь этот доклад – для неё. Не поняла – зачем?) А именно такой домишко и напрашивается, перспективный. По-моему, вариант – для всех перспективный… Такие дома горисполком не разрешает продавать, но эта формальность за мной… Почему перспективный? – Алексей покровительственно улыбнулся: мотайте на ус – учитесь. – Дома под снос – они обречены, их даже ремонтировать не разрешают. На их месте через год-два-три начнут строить многоэтажные дома. Следовательно, жильцы получат квартиры. Вас пять человек: вот вам и предоставят трехкомнатную квартиру…
– Алексей, какой хоть домишко-то? – вдруг обреченно спросила Вера.
– Да какой! – Алексей и руки развел, усмехнулся: уж какой, мол, на снос. – Ну, как вот у Нины, такой вот… домишко, поменьше.
– Теплый? – под нос себе пробормотал Борис.
– Лисий, – наверно, подумала вслух Нина – и только Борис вздрогнул, резко вскинул голову, однако тотчас же и опустил.
– Домишко, домишко… сносить будут. А хозяйка старая, лет уже семидесяти пяти, она и квартиру не признаёт, вот и переселится к сыну – у сына тоже свой дом, а деньги, понятно, им не помешают… Для вас это лучший вариант. Но ещё раз говорю: вам жить – вам и решать.
– Коротко говоря, надо ехать, глядеть, на месте и обговаривать дело, – рассудил Борис.
– А что обговаривать? Мы с тобой все обговорили. Ехать так ехать – а по волосам чо плакать! Ты мужик – за тобой и слово! У нас мама покойная смелее была… чем мы. – И Вера вдруг – это было все-таки нервное что-то – неестественно бодро и до обидного бесцеремонно засмеялась.
– Что зубы-то скалишь! – негромко цыкнул Борис и засопел точно воз в гору потянул.
Дети насторожились – они-то знали, что бывает, если отец гневно засопит.
– А что, правильно говорит Вера: решать – дело мужское… Только вот мы, мужчины, почему-то отвыкли от этого. – И сказано это было так, как если бы Алексей категорически вычленил себя из нерешительных: да, мол, вот они какие, но я-то не такой.
– Оставь, ты… отвыкли, – возмутился Борис. – Отучили. Сравняли с бабами, вот и решения некому принимать. Шиворот-навыворот…
– Те-те-те… Это уже в тебе досада. Не надо, не надо накалять атмосферу. Личное – в другой раз. – Алексей подмигнул Вере, призывая к благоразумию, и чтобы тотчас разъять их, расчленить, нейтрализовать друг от друга, он обратился к Нине, тем самым переводя разговор в иную протоку: – А ты как думаешь, сестрица? Что помалкиваешь? Или молчание – золото!.. Ах ты, Лизавета наша Алексеевна: и глаза закроет, а видит, уши заложит, а слышит – вот и ты у нас в маму… Не молчи, человек, не молчи. – Алексей подмигнул Борису, похлопал по плечу Петьку – мужик, засмеялся – и напряжение за столом будто развеялось – так пасмурный день улыбается, стоит лишь надеждой проглянуть солнышку. И тем более неожиданно прозвучал вопрос:
– А не знаешь ты, братка, почему это люди нынче не пляшут, или разучились? – Бесформенные губы Нины горько преломились. – Да и петь – тоже как-то не поют. Тоже разучились?
Большаки ткнули друг другу под бока; Вера и Борис переглянулись – в недоумении. И только Алексей в тот же момент внутренне напрягся и сосредоточился. Не зря прошли годы, сказывалась и школа – привык к неожиданностям: он четко зафиксировал и определил подтекст вопроса и тотчас нашел единственно правильный ответ – в его положении:
– Э, сестра, задавай попроще вопросы! Откуда это мне знать, почему волки серые. А если знаешь – подскажи!
Не подсказала. Напротив, ещё и спросила:
– А как ты думаешь: есть ли во вселенной другая, такая же вот Земля, голубая планета со всеми её условиями, со средой обитания и обитателями? Или же Земля одинока и неповторима?
И на этот раз понял Алексей сестру – прекрасно понял, и вновь ушёл от ответа: он прикрыл глаза и сказал негромко с открытой грустью и сожалением:
– Жаль, но мы говорим о совсем другой среде обитания – о домике в районном центре, за который ко всему предстоит заплатить тысячи полторы заработанных рублей… А космос – пока не до него. Да и жить нам на земле и думать прежде всего надо о том, как построить счастливое будущее здесь, на земле.
– А я-то подумала, что ты все знаешь, а ты, оказывается, только о коммунизме можешь…
И как будто остановилось время – короткое тягостное молчание. И это был момент, когда каждый жил и думал особо.
Борис: «А девка-то, брат, не так себе, а кое-что. Ей палец на губу не клади, может и отхыкать… Только ведь чернушница – и ему не указ, он, брат, высоко огнездился, его уже голой рукой не ухватишь».
Вера: «И что милая – все задирает и задирает, как залётку пришлого. Только ведь знаю – и ей он люб…»
Петька: «Дает стране угля: я думала, говорит, ты все знаешь, а ты ни хрена не знаешь».
Федька: «Вот чернушница, и что суётся, из-за неё и передумать могут. Уж молчала бы».
Ванюшка: «А я ведь за крестную заступлюсь. И никуда я и не поеду – вот».
Нина: «Господи, как Вавилон: все на разных языках говорим – и не понимает уже брат сестру, а сестра брата».
Алексей: «Значит, Нина Петровна, подсечь решила, жилы подрезать… Опоздала родиться, сестра… Отбрить тебя – жалко, промолчать – в вола начнешь раздуваться. Вот уж верно: язык наперёд ума бежит», – рассудил Алексей и спокойно сказал:
– Я знаю, что ничего не знаю, но знаю и то, что младшая сестра знает не больше моего – и, увы, наиболее далека от истины. Но если желания завелись, то теорией мы можем заняться за вечерним чаем, но только после деловой части, потому что здесь мы не одни. – Он лишь чуточку позволил себе напрячься, и голос уже прозвучал властно и холодно. И вот эта холодность и властность неожиданно для Алексея и смутили сидящих за столом, как тогда – после похорон матери. И Алексей понял – это отчуждение, понял и то, что вот сейчас же и может произойти нелепейший разлад, и ему придется сглаживать этот разлад, то есть проводить дешевую дипломатию. И Алексею сделалось не по себе, досадно… Да зачем все это и сдалось, ради чего, да пусть они хоть сто лет живут в этой Курбатихе – каждому своё. Разного мы поля ягоды, и что требовать и ждать невозможного! Встать, плюнуть да и уйти, уехать… И вот здесь Алексей уже лгал – сам себе, даже против своей воли. Не встанет, не плюнет, не уйдёт и не уедет. По внешним приметам и признакам он был нужен Курбатихе и Перелетихе как опора, как имеющий силу и уверенность. На самом же деле в первую очередь ему были нужны и Курбатиха, и Перелетиха – вся близкая и до туманности далекая родня. Не он им, а они ему были необходимы – как воздух, как вода: только здесь, в этом непосредственном, доверчивом окружении, он вот так полно и естественно мог насладиться своим превосходством – они смотрели на него не просто как на брата или родственника, но и как на выходца, на собственного полпреда в той, казалось, большой жизни, как на человека, сумевшего вырваться из тесноты чёрного бытия – и воспарить в недосягаемые для них высоты. Они любили его и любовались им – и это для него было более чем необходимо. Ведь повседневно на него до сих пор смотрели сверху вниз – даже жена, а здесь – на него смотрели только снизу, и не в силу условий и обстоятельств, а в силу искренней гордости за него. Он увозил отсюда новый заряд энергии, он подновлялся, и прибивалась новая необоримая вера в себя – и она, эта вера, и подстёгивала, понукала и заставляла неустанно воспарять, воспарять над своей мерзкой подчиненностью. И как же ему порой не хватало матери и заволжской родни!.. О, если бы все вместе, если бы все заодно – какая бы это была толкающая энергия, особенно когда подрастут племяши, хоть небо штурмуй! И в городе нужна хотя бы временная подпорка, слепое восхищение.
А вот теперь прихлынуло разочарование, тоска, появилось желание навсегда уйти, уехать. И трудно сказать, как бы произошла разрядка, но свою лепту внес Ванюшка:
– А я, папа, а я, мама, – он говорил тихо, но в общем молчании слова его прозвучали четко и даже по-детски твёрдо, хотя с каждым словом он все ниже опускал свою белёсую головёнку, – и никуда я не поеду, останусь с ко?кой в Перелетихе и женюсь на коке, а вы к нам в гости приезжать станете…
Ванюшка так и не договорил фразу, как будто с облегчением все засмеялись. Ишь, жених! На тётке-то родной или женятся! Ну и Ванька-хлёст! А ведь и не поедет – гусь лапчатый…
А Нина с трепетом в душе обнимала Ванюшку и смеялась тихо и радостно.
– Ну, по такому случаю не грех и по рюмочке, – добродушно предложил Алексей. – Борис, достань, там, у меня в портфеле.
И одно упоминание о портфеле, ну, вдохновило Бориса…
Отвлеклись, точно и думать перестали о возможных или предстоящих трудностях, не говоря уже о том, чтобы продолжать нелепый застольный спор. Но и Алексей, и Нина чувствовали в себе напряжение такое, когда нет, казалось бы, ни зла, ни обиды, но когда безостановочно подмывает и подмывает желание что-нибудь съязвить, зацепить соседа. Алексей и не удивился, что Нина так-таки и спросила:
– А я ведь серьезно вполне: почему всё же люди плясать перестали или разучились? Ты понимаешь, о чем я.
На сей раз Алексей решил полусерьезно отболтаться:
– Видишь ли, Нина, – он откинулся на спинку стула и широко развел руки, – если бы я смог ответить на этот вопрос, то не протирал бы штаны в райкоме комсомола, протирал бы их где-нибудь в Москве… Более того, могу в дополнение тебе сказать о существующей ныне и «магнитофонной» проблеме – это непосредственно касается меня как секретаря райкома комсомола. Вот, скажем, стоят на улице парни, собрались компашкой, бренчат на гитаре и мяукают Окуджаву, а то и вовсе орут черт-те что – это в лучшем случае. Но чаще всего идут кучей молча, смолят сигареты, у кого-то в руке мощный магнитофон – и вот этот «маг» орёт за всех на языке тамбу-ламбу под визг или гром. Вот это и есть магнитофонная проблема – проблема отупения. Откуда она? У нас что, своих песен нет, своего языка нет? И это только начало: то ли ещё будет! – не зря предупреждает девичка-певичка… Вот, к примеру, я тебя и спросил бы: почему, откуда все это?
– Если бы спросил, то я, пожалуй, ответила бы. Только мой ответ тебя не устроит…
Алексей резко вскинул вверх руку с воздетым указательным пальцем:
– Вот именно! – воскликнул он. – Правильно ты сказала: не устроит! Потому что ты будешь отвечать вообще, в целом, в общем, а мне надо конкретно, чтобы враз – и действенно, тотчас и в дело, чтобы завтра и пошли бы по улице с песней «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Вот мне как нужно отвечать, а не в общем. Мы – прагматики, рационалисты, а вы – идеалисты: пришла маниловская идейка – вот и можно тешиться, пока не надоест. – И Алексей почувствовал, как сладостный комок перекатился в горле, а это значило, что он вопреки желанию обретал рабочую форму и слова его становятся пробойными…
А между тем Борис, выпив первую со всеми, со скукой слушал разговор. Жена и вовсе отвернулась от стола к телевизору, и тогда Борис налил себе ещё стопку и ещё и уже вскоре осовел… Бориса, казалось, если и волновало, так это лишь то, а будет ли в городе лучше, а что до Курбатихи, так провались она пропадом… Долго раскачивала его жизнь, пока в конце концов не подломился становой корешок – и сорвало с места, и понесло-поволокло: а теперь безразлично – лиха беда сорваться.
Алексей говорил легко, без внутренней суеты, без придыхания, без заминки – и так он мог говорить и час, и два, и три:
– Нам не нужна трескотня, нам не нужна утопия, мы люди дела, и конкретные дела – наша стихия. Но коммунистическое строительство не догма…
– Остановись, не надо. Не надо – и все… Я ведь тоже Струнина, оба мы – Струнины. Я и сама что-то соображаю, темню в своем одиночестве… не зря вы меня, видать, «чернушницей» зовёте, знаю об этом, правда, не знаю, какой смысл вкладываете вы в это слово – или болтушка, или монашка? – только ведь ни то ни другое мне не подходит… Ну, да ладно, я не сержусь. И ты не сердись, мы ведь брат с сестрой – все мы родные. – Нина помолчала, а Алексей, кажется, впервые заметил на ее лице отвлечённое мышление, заметил и подумал: «А ведь умная девка, вот тебе и в мамку». – Знаешь, брат, а ведь всё, что ты сейчас говорил – демагогия, самая настоящая социалистическая демагогия. (От слов этих Алексей буквально похолодел – такого ему ещё никто не говорил – ни на каких уровнях.) Реальность, влияние, коммунистическое строительство, завтра, сегодня, сейчас, трескотня, утопия, стихия – это пустые слова, оболочка пустоты, то есть демагогия. И пока эта демагогия жива и развивается, вы будете заняты ею, а людей-то живых мимо глаз пропустите. Я говорю «вы», потому что ты сам так размежевался… Ты думаешь враз – и заставить молодёжь другие песни петь, а там – определяют конкретный год, когда объявить коммунизм. Вот и то и другое – демагогия. Есть психология нации, национальности – и эта психология формируется не одним днём – веками. Но как ребенку труднее привить доброе и разумное, чем неразумное и злое, так и обществу людей – тоже. Разрушить устоявшиеся нормы-традиции можно, но чтобы хоть восстановить порушенное даже при идеальных условиях, потребуются многие десятилетия… А вы: откуда? Как? Смирно – завтра же изменить! Не изменишь, пока не поймешь ту самую идею, о которой ты только что говорил, а поняв, пока не определишь нравственный идеал, а уж потом поведешь спокойную работу. Человеческую душу штурмом не возьмешь, она ведь посерьезнее марксистских идей, она ведь, душа-то, живая – и смириться может, и вознегодовать…
И Алексей забеспокоился, занервничал: нет, не потому, что сестра отчитывала, а потому, что она отчитывала именно так, как сам он не смог бы отчитать, и вот на это, он понимал, у него не найдется возражений, а если и найдутся – демагогические. И ещё потому он нервничал, что не верил, что сестра говорит от своего ума – ему уже страсть как хотелось убедиться, что она не от себя, и он уже не сомневался в правильности своей догадки, он сказал, всё-таки удерживая раздражение:
– Пожалуй, вполне умно… Но скажи, кого или чего это ты злопыхательского начиталась? Какие столпы демагогического идеализма глаголют твоими устами? С чужого голоса говоришь, сестра.
Нина засмеялась:
– Алексей, какой хоть домишко-то? – вдруг обреченно спросила Вера.
– Да какой! – Алексей и руки развел, усмехнулся: уж какой, мол, на снос. – Ну, как вот у Нины, такой вот… домишко, поменьше.
– Теплый? – под нос себе пробормотал Борис.
– Лисий, – наверно, подумала вслух Нина – и только Борис вздрогнул, резко вскинул голову, однако тотчас же и опустил.
– Домишко, домишко… сносить будут. А хозяйка старая, лет уже семидесяти пяти, она и квартиру не признаёт, вот и переселится к сыну – у сына тоже свой дом, а деньги, понятно, им не помешают… Для вас это лучший вариант. Но ещё раз говорю: вам жить – вам и решать.
– Коротко говоря, надо ехать, глядеть, на месте и обговаривать дело, – рассудил Борис.
– А что обговаривать? Мы с тобой все обговорили. Ехать так ехать – а по волосам чо плакать! Ты мужик – за тобой и слово! У нас мама покойная смелее была… чем мы. – И Вера вдруг – это было все-таки нервное что-то – неестественно бодро и до обидного бесцеремонно засмеялась.
– Что зубы-то скалишь! – негромко цыкнул Борис и засопел точно воз в гору потянул.
Дети насторожились – они-то знали, что бывает, если отец гневно засопит.
– А что, правильно говорит Вера: решать – дело мужское… Только вот мы, мужчины, почему-то отвыкли от этого. – И сказано это было так, как если бы Алексей категорически вычленил себя из нерешительных: да, мол, вот они какие, но я-то не такой.
– Оставь, ты… отвыкли, – возмутился Борис. – Отучили. Сравняли с бабами, вот и решения некому принимать. Шиворот-навыворот…
– Те-те-те… Это уже в тебе досада. Не надо, не надо накалять атмосферу. Личное – в другой раз. – Алексей подмигнул Вере, призывая к благоразумию, и чтобы тотчас разъять их, расчленить, нейтрализовать друг от друга, он обратился к Нине, тем самым переводя разговор в иную протоку: – А ты как думаешь, сестрица? Что помалкиваешь? Или молчание – золото!.. Ах ты, Лизавета наша Алексеевна: и глаза закроет, а видит, уши заложит, а слышит – вот и ты у нас в маму… Не молчи, человек, не молчи. – Алексей подмигнул Борису, похлопал по плечу Петьку – мужик, засмеялся – и напряжение за столом будто развеялось – так пасмурный день улыбается, стоит лишь надеждой проглянуть солнышку. И тем более неожиданно прозвучал вопрос:
– А не знаешь ты, братка, почему это люди нынче не пляшут, или разучились? – Бесформенные губы Нины горько преломились. – Да и петь – тоже как-то не поют. Тоже разучились?
Большаки ткнули друг другу под бока; Вера и Борис переглянулись – в недоумении. И только Алексей в тот же момент внутренне напрягся и сосредоточился. Не зря прошли годы, сказывалась и школа – привык к неожиданностям: он четко зафиксировал и определил подтекст вопроса и тотчас нашел единственно правильный ответ – в его положении:
– Э, сестра, задавай попроще вопросы! Откуда это мне знать, почему волки серые. А если знаешь – подскажи!
Не подсказала. Напротив, ещё и спросила:
– А как ты думаешь: есть ли во вселенной другая, такая же вот Земля, голубая планета со всеми её условиями, со средой обитания и обитателями? Или же Земля одинока и неповторима?
И на этот раз понял Алексей сестру – прекрасно понял, и вновь ушёл от ответа: он прикрыл глаза и сказал негромко с открытой грустью и сожалением:
– Жаль, но мы говорим о совсем другой среде обитания – о домике в районном центре, за который ко всему предстоит заплатить тысячи полторы заработанных рублей… А космос – пока не до него. Да и жить нам на земле и думать прежде всего надо о том, как построить счастливое будущее здесь, на земле.
– А я-то подумала, что ты все знаешь, а ты, оказывается, только о коммунизме можешь…
И как будто остановилось время – короткое тягостное молчание. И это был момент, когда каждый жил и думал особо.
Борис: «А девка-то, брат, не так себе, а кое-что. Ей палец на губу не клади, может и отхыкать… Только ведь чернушница – и ему не указ, он, брат, высоко огнездился, его уже голой рукой не ухватишь».
Вера: «И что милая – все задирает и задирает, как залётку пришлого. Только ведь знаю – и ей он люб…»
Петька: «Дает стране угля: я думала, говорит, ты все знаешь, а ты ни хрена не знаешь».
Федька: «Вот чернушница, и что суётся, из-за неё и передумать могут. Уж молчала бы».
Ванюшка: «А я ведь за крестную заступлюсь. И никуда я и не поеду – вот».
Нина: «Господи, как Вавилон: все на разных языках говорим – и не понимает уже брат сестру, а сестра брата».
Алексей: «Значит, Нина Петровна, подсечь решила, жилы подрезать… Опоздала родиться, сестра… Отбрить тебя – жалко, промолчать – в вола начнешь раздуваться. Вот уж верно: язык наперёд ума бежит», – рассудил Алексей и спокойно сказал:
– Я знаю, что ничего не знаю, но знаю и то, что младшая сестра знает не больше моего – и, увы, наиболее далека от истины. Но если желания завелись, то теорией мы можем заняться за вечерним чаем, но только после деловой части, потому что здесь мы не одни. – Он лишь чуточку позволил себе напрячься, и голос уже прозвучал властно и холодно. И вот эта холодность и властность неожиданно для Алексея и смутили сидящих за столом, как тогда – после похорон матери. И Алексей понял – это отчуждение, понял и то, что вот сейчас же и может произойти нелепейший разлад, и ему придется сглаживать этот разлад, то есть проводить дешевую дипломатию. И Алексею сделалось не по себе, досадно… Да зачем все это и сдалось, ради чего, да пусть они хоть сто лет живут в этой Курбатихе – каждому своё. Разного мы поля ягоды, и что требовать и ждать невозможного! Встать, плюнуть да и уйти, уехать… И вот здесь Алексей уже лгал – сам себе, даже против своей воли. Не встанет, не плюнет, не уйдёт и не уедет. По внешним приметам и признакам он был нужен Курбатихе и Перелетихе как опора, как имеющий силу и уверенность. На самом же деле в первую очередь ему были нужны и Курбатиха, и Перелетиха – вся близкая и до туманности далекая родня. Не он им, а они ему были необходимы – как воздух, как вода: только здесь, в этом непосредственном, доверчивом окружении, он вот так полно и естественно мог насладиться своим превосходством – они смотрели на него не просто как на брата или родственника, но и как на выходца, на собственного полпреда в той, казалось, большой жизни, как на человека, сумевшего вырваться из тесноты чёрного бытия – и воспарить в недосягаемые для них высоты. Они любили его и любовались им – и это для него было более чем необходимо. Ведь повседневно на него до сих пор смотрели сверху вниз – даже жена, а здесь – на него смотрели только снизу, и не в силу условий и обстоятельств, а в силу искренней гордости за него. Он увозил отсюда новый заряд энергии, он подновлялся, и прибивалась новая необоримая вера в себя – и она, эта вера, и подстёгивала, понукала и заставляла неустанно воспарять, воспарять над своей мерзкой подчиненностью. И как же ему порой не хватало матери и заволжской родни!.. О, если бы все вместе, если бы все заодно – какая бы это была толкающая энергия, особенно когда подрастут племяши, хоть небо штурмуй! И в городе нужна хотя бы временная подпорка, слепое восхищение.
А вот теперь прихлынуло разочарование, тоска, появилось желание навсегда уйти, уехать. И трудно сказать, как бы произошла разрядка, но свою лепту внес Ванюшка:
– А я, папа, а я, мама, – он говорил тихо, но в общем молчании слова его прозвучали четко и даже по-детски твёрдо, хотя с каждым словом он все ниже опускал свою белёсую головёнку, – и никуда я не поеду, останусь с ко?кой в Перелетихе и женюсь на коке, а вы к нам в гости приезжать станете…
Ванюшка так и не договорил фразу, как будто с облегчением все засмеялись. Ишь, жених! На тётке-то родной или женятся! Ну и Ванька-хлёст! А ведь и не поедет – гусь лапчатый…
А Нина с трепетом в душе обнимала Ванюшку и смеялась тихо и радостно.
– Ну, по такому случаю не грех и по рюмочке, – добродушно предложил Алексей. – Борис, достань, там, у меня в портфеле.
И одно упоминание о портфеле, ну, вдохновило Бориса…
Отвлеклись, точно и думать перестали о возможных или предстоящих трудностях, не говоря уже о том, чтобы продолжать нелепый застольный спор. Но и Алексей, и Нина чувствовали в себе напряжение такое, когда нет, казалось бы, ни зла, ни обиды, но когда безостановочно подмывает и подмывает желание что-нибудь съязвить, зацепить соседа. Алексей и не удивился, что Нина так-таки и спросила:
– А я ведь серьезно вполне: почему всё же люди плясать перестали или разучились? Ты понимаешь, о чем я.
На сей раз Алексей решил полусерьезно отболтаться:
– Видишь ли, Нина, – он откинулся на спинку стула и широко развел руки, – если бы я смог ответить на этот вопрос, то не протирал бы штаны в райкоме комсомола, протирал бы их где-нибудь в Москве… Более того, могу в дополнение тебе сказать о существующей ныне и «магнитофонной» проблеме – это непосредственно касается меня как секретаря райкома комсомола. Вот, скажем, стоят на улице парни, собрались компашкой, бренчат на гитаре и мяукают Окуджаву, а то и вовсе орут черт-те что – это в лучшем случае. Но чаще всего идут кучей молча, смолят сигареты, у кого-то в руке мощный магнитофон – и вот этот «маг» орёт за всех на языке тамбу-ламбу под визг или гром. Вот это и есть магнитофонная проблема – проблема отупения. Откуда она? У нас что, своих песен нет, своего языка нет? И это только начало: то ли ещё будет! – не зря предупреждает девичка-певичка… Вот, к примеру, я тебя и спросил бы: почему, откуда все это?
– Если бы спросил, то я, пожалуй, ответила бы. Только мой ответ тебя не устроит…
Алексей резко вскинул вверх руку с воздетым указательным пальцем:
– Вот именно! – воскликнул он. – Правильно ты сказала: не устроит! Потому что ты будешь отвечать вообще, в целом, в общем, а мне надо конкретно, чтобы враз – и действенно, тотчас и в дело, чтобы завтра и пошли бы по улице с песней «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Вот мне как нужно отвечать, а не в общем. Мы – прагматики, рационалисты, а вы – идеалисты: пришла маниловская идейка – вот и можно тешиться, пока не надоест. – И Алексей почувствовал, как сладостный комок перекатился в горле, а это значило, что он вопреки желанию обретал рабочую форму и слова его становятся пробойными…
А между тем Борис, выпив первую со всеми, со скукой слушал разговор. Жена и вовсе отвернулась от стола к телевизору, и тогда Борис налил себе ещё стопку и ещё и уже вскоре осовел… Бориса, казалось, если и волновало, так это лишь то, а будет ли в городе лучше, а что до Курбатихи, так провались она пропадом… Долго раскачивала его жизнь, пока в конце концов не подломился становой корешок – и сорвало с места, и понесло-поволокло: а теперь безразлично – лиха беда сорваться.
Алексей говорил легко, без внутренней суеты, без придыхания, без заминки – и так он мог говорить и час, и два, и три:
– Нам не нужна трескотня, нам не нужна утопия, мы люди дела, и конкретные дела – наша стихия. Но коммунистическое строительство не догма…
– Остановись, не надо. Не надо – и все… Я ведь тоже Струнина, оба мы – Струнины. Я и сама что-то соображаю, темню в своем одиночестве… не зря вы меня, видать, «чернушницей» зовёте, знаю об этом, правда, не знаю, какой смысл вкладываете вы в это слово – или болтушка, или монашка? – только ведь ни то ни другое мне не подходит… Ну, да ладно, я не сержусь. И ты не сердись, мы ведь брат с сестрой – все мы родные. – Нина помолчала, а Алексей, кажется, впервые заметил на ее лице отвлечённое мышление, заметил и подумал: «А ведь умная девка, вот тебе и в мамку». – Знаешь, брат, а ведь всё, что ты сейчас говорил – демагогия, самая настоящая социалистическая демагогия. (От слов этих Алексей буквально похолодел – такого ему ещё никто не говорил – ни на каких уровнях.) Реальность, влияние, коммунистическое строительство, завтра, сегодня, сейчас, трескотня, утопия, стихия – это пустые слова, оболочка пустоты, то есть демагогия. И пока эта демагогия жива и развивается, вы будете заняты ею, а людей-то живых мимо глаз пропустите. Я говорю «вы», потому что ты сам так размежевался… Ты думаешь враз – и заставить молодёжь другие песни петь, а там – определяют конкретный год, когда объявить коммунизм. Вот и то и другое – демагогия. Есть психология нации, национальности – и эта психология формируется не одним днём – веками. Но как ребенку труднее привить доброе и разумное, чем неразумное и злое, так и обществу людей – тоже. Разрушить устоявшиеся нормы-традиции можно, но чтобы хоть восстановить порушенное даже при идеальных условиях, потребуются многие десятилетия… А вы: откуда? Как? Смирно – завтра же изменить! Не изменишь, пока не поймешь ту самую идею, о которой ты только что говорил, а поняв, пока не определишь нравственный идеал, а уж потом поведешь спокойную работу. Человеческую душу штурмом не возьмешь, она ведь посерьезнее марксистских идей, она ведь, душа-то, живая – и смириться может, и вознегодовать…
И Алексей забеспокоился, занервничал: нет, не потому, что сестра отчитывала, а потому, что она отчитывала именно так, как сам он не смог бы отчитать, и вот на это, он понимал, у него не найдется возражений, а если и найдутся – демагогические. И ещё потому он нервничал, что не верил, что сестра говорит от своего ума – ему уже страсть как хотелось убедиться, что она не от себя, и он уже не сомневался в правильности своей догадки, он сказал, всё-таки удерживая раздражение:
– Пожалуй, вполне умно… Но скажи, кого или чего это ты злопыхательского начиталась? Какие столпы демагогического идеализма глаголют твоими устами? С чужого голоса говоришь, сестра.
Нина засмеялась: