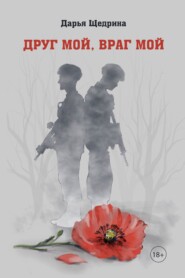По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подмастерья бога
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У него сердце дрогнуло и тревожно застучало, когда он увидел распахнутую настежь дверь кабинета и толпящихся там людей. Подбежал, заглянул внутрь через плечи и головы: ребята из реанимации укладывали Старика на каталку, тот был бледен и держался рукой за сердце.
– Нина, что происходит? – выцепил он из толпы дежурную медсестру.
– Ой, Глеб Александрович, говорят у Алексея Ивановича обширный инфаркт! – девушка в белом форменном брючном костюме подняла на него испуганные глаза. – Он как к себе вошёл, шатаясь, я сразу побежала следом, уложила на диван, достала его таблетки, которые он обычно принимает, померила давление. А давление невысокое, даже наоборот. Вижу, что ему совсем плохо, позвонила в реанимацию. Ну, а они уже ЭКГ сняли…
– Молодец, Нина, ты всё правильно сделала, – Глеб кивнул и отодвинул сестричку в сторону, прошёл в кабинет.
Командовал заведующий реанимацией Сергей Петрович, высокий, худой, похожий на Дон Кихота своей седоватой острой бородкой. Уже поставили капельницу и прикрыли грузное профессорское тело простыней, закрыв круглые отметины от электродов на его груди.
– Как вы, Алексей Иванович? – протиснулся Глеб мимо реаниматологов и взял за руку учителя. Рука была вялой и холодной.
Леденёв открыл смеженные мукой глаза и улыбнулся слабой, дрожащей улыбкой.
– Видишь, как всё получилось, Глебушка… Не успел я тебя вывести в люди, не успел. Прости…
– Вы о чём, Алексей Иванович? – Глеб сильнее сжал слабую ладонь профессора, бессознательно пытаясь поддержать, удержать.
Санитары с трудом развернули каталку в тесном помещении и стали вывозить больного в коридор.
– Сынок, позаботься о Зое, – еле слышно прошептал Леденёв, бросив на ученика умоляющий взгляд. – Пропадёт она одна, пропадёт…
– Всё будет в порядке, Алексей Иванович, не волнуйтесь! – Глеб, не выпуская руку Старика пошёл следом, отталкивая по пути растерянных коллег, медсестёр, больных. – Сейчас вам ребята в реанимации капельницу прокапают, а я рентген-операционную подготовлю, сделаем коронарографию, поставим стенты и всё. Через пару часов будете как новенький! Вы главное не волнуйтесь. Всё будет хорошо!
Он хотел идти с учителем дальше, в реанимацию, но кто-то взял его за плечо и остановил. Глеб обернулся.
– Ты-то куда намылился, Астахов? – спросил Сергей Петрович. – Там наша территория.
– Большой инфаркт? – задал вопрос Глеб, чувствуя, как что-то сжимается в области солнечного сплетения от мрачного выражения лица собеседника.
– Огромный. Полсердца. – Сергей Петрович коротко вздохнул. – Про прогноз не спрашивай. Я не господь бог и не гидрометеоцентр, прогнозов не даю. Но всё весьма хреново.
Заведующий реанимацией быстрым шагом последовал за дребезжащей каталкой по коридору. Глеб на секунду замер, обдумывая его слова, но тут же бросился следом.
– Сергей Петрович, так я готовлю операционную для коронарографии и стентирования?
– Да погоди ты со своей коронарографией! Нам его сначала стабилизировать надо, – и ушёл.
А Глеб стоял, растерянно опустив руки, и с болью в сердце вслушивался в жалобно-дребезжащий звук заднего колеса старой, разболтанной каталки, удаляющейся по коридору. И в голове у него крутилась глупая, ненужная мысль: «Университетская клиника, а каталки древние, доисторические. Неужели нет денег купить новые?»
Пребывать в неведении и ждать, ждать, ждать было слишком тяжело, поэтому Глеб всё-таки принялся за организацию предстоящей операции. Он собрал бригаду, настоял на переносе уже запланированных коронарографий. Другие больные могли немного подождать. А сам минут через сорок пошёл в реанимацию, справиться о состоянии пациента.
В коридоре за дверью с надписью «Реанимация» столкнулся с Сергеем Петровичем.
– Ну как он? – попытался заглянуть в непроницаемые глаза врача.
– Плохо, Глеб… Умер Алексей Иванович. Я как раз шёл сообщить вам об этом. Началась фибрилляция желудочков. Мы ничего не смогли сделать.
У Глеба всё похолодело внутри, а руки сжались в кулаки до боли, так, что побелели суставы.
– Как умер?.. – он не узнал собственный голос. – Вы что, Сергей Петрович?.. Я же операционную уже подготовил. Мы же сразу сделали бы коронарографию и стенты поставили… Как же так?..
Сергей Петрович только тяжело вздохнул, посмотрел на Глеба сочувственно и тронул его за плечо.
– Иди к нему, пока его не увезли в морг, попрощайся, – и легонько подтолкнул к двери в палату.
В просторном помещении, рассчитанном на три койки, было сумрачно. Лампы на потолке не горели, не светились индикаторы ни одного прибора жизнеобеспечения. Только тусклый вечерний свет лился через большое окно с не закрытыми жалюзи. Глеб медленно, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, словно душа не желала верить в происходящее, подошёл к крайней койке, на которой лежало что-то большое и тёмное, укрытое простыней.
Он остановился у изголовья и замер, не замечая, что кусает губы до крови. В глубине души разрасталась чёрная дыра. Он медленно потянул за краешек простыни…
Лицо Старика было мертвенно бледным и удивительно спокойным, даже умиротворённым. Глеб судорожно вздохнул и поднял взгляд, уставившись в тёмный потолок, не давая пролиться из глаз жгучей влаге. Спустя бесконечно долгую минуту всё-таки сумел совладать с рвущимся из горла то ли стоном, то ли всхлипом, положил руку на холодное, неживое плечо учителя и сдавленно прошептал:
– Простите, Алексей Иванович, простите.
Резким движением вернул простыню на место и быстро вышел из палаты. В коридоре толпились реаниматологи. Несколько пар глаз уставились на него с немым вопросом, но Глеб прошёл мимо, не сказав ни слова.
Весть о смерти профессора порывом злого ветра пронеслась по этажам и коридорам. Когда Глеб вошёл в ординаторскую, там уже собрались все, кто долгие годы работал со Стариком. Лица были застывшие, потрясённые.
Глеб молча подошёл к окну. Внизу расстилался заметённый снегом больничный сквер. Всё было белым: заснеженные кроны деревьев, дорожки, превратившиеся в сугробы скамейки, машины на парковке, одинокие прохожие, торопящиеся пройти через сквер и нырнуть в тепло… Белым, как саван… А в ординаторской повисла такая тишина, что трудно было дышать.
Наконец с тяжёлым вздохом нарушил это тягостное для всех безмолвие Разгуляев.
– Надо как-то родным сообщить, и, думаю, лучше не по телефону.
– Конечно, не по телефону, – поддакнул Сева.
– Глеб, – Станислав Геннадьевич поднял глаза на застывшего у окна Астахова, – мне кажется, лучше это сделать тебе. Ты же был вхож в его семью. Да и относился Старик к тебе как-то по-родственному.
– Да, конечно, – выдавил из себя Глеб хрипло, точно в горле у него всё пересохло, – сейчас пойду.
Народ ещё посидел минут пять и потянулся из ординаторской, оставив Глеба в одиночестве собираться с силами. В этот день отменили все плановые операции, потому что ни один врач, ни одна медсестра были не в состоянии выполнять привычную работу. Растерянность и чувство вины скорбным холодком поселились в душе каждого, мешая думать, мешая сосредоточиться, заставляя руки дрожать. Отделение кардиохирургии застыло и съежилось, как потерявший хозяина щенок.
Глеб собирался минут сорок. Голова была пустой до звона, а в ногах скопилась странная тяжесть, так что каждый шаг давался с трудом. Руки утратили привычную ловкость, и он долго боролся с пуговицами рубашки, переодеваясь. Говорят, что в древние времена гонца, принесшего недобрую весть, принято было убивать. И Глеб был бы рад, если бы этот обычай вернулся. Сказать Зойке и Катерине Васильевне то, что он должен был сказать, и остаться после этого в живых… Лучше умереть.
Провожаемый взглядами коллег, он шёл по коридору к выходу с отделения, словно на эшафот. Приговор вынесен, обжалованию не подлежит. Все ему сочувствовали, но никто, ни одна живая душа не желала взять на себя бремя этой тяжкой обязанности. И Глеб шёл вперёд один…
Он вышел на улицу и задохнулся от ударившего в лицо стылого январского ветра. Закрыв глаза и ощущая удары колких ледяных игл, он постоял, постоял и пошёл по аллее сквера. Глеб знал, что за ним наблюдают, прильнув к окнам, все, кто в этот день оказался на отделении. Он чувствовал эти взгляды спиной, ощущая, как вдоль позвоночника медленно ползут мурашки. А мысли его, тяжёлые, мрачные, были обращены вперёд, сквозь заснеженные парковые аллеи, где в старом доме две одинокие женщины ждали возвращения Старика.
С трудом переступая по занесённым снегом дорожкам парка, Глеб дошёл до одинокой скамейки, сиротливо застывшей под разбитым фонарем, и сел. Фонари в парке уже зажглись, а этот не горел, пряча в сумраке сгорбленную в скорбной позе фигуру.
Глеб облокотился на собственные колени и уронил лицо в ладони. Боль, теснившаяся в груди, так долго сдерживаемая под сочувствующими взглядами коллег и друзей, наконец прорвалась наружу отчаянными, горестными всхлипами. Снег, мелкий, колючий, злой, засыпал вздрагивающие плечи. А между пальцев скатывались, стекали горячими ручейками то ли слёзы, то ли растаявшие снежинки. Здесь, на продрогшей зимней скамейке он всем своим существом прочувствовал, осознал, что Старика, доброго, мудрого, родного до боли в сердце, его Старика больше нет. Никто не позовёт его после долгого и трудного рабочего дня попить чайку и поговорить по душам. Никто не будет учить его уму-разуму, делясь гигантским жизненным опытом. Никто и никогда уже не скажет ему: «сынок»… Вернулось позабытое ощущение сиротства и накрыло его с головой…
Немного успокоившись, Глеб выпрямился, набрал полную пригоршню снега и протёр им лицо. Жгучее ледяное прикосновение встряхнуло, привело в чувство. Он встал и решительно зашагал по пустынной аллее к дому профессора.
Шаги по лестнице отдавались в ушах звуком метронома. Трель звонка пробила оцепеневшее сознание, и следом потекла лавина звуков: шаги за дверью, шаркающие, старческие, скрип половиц, лязганье замка, звон ключей. Дверь распахнулась.
– О, Глебушка, проходи! – радостно воскликнула Катерина Васильевна, не обратив внимания на выражение лица гостя и пропуская его в квартиру. – А где Алексей Иванович?
Глеб застыл, прислонившись спиной к холодной дверной створке, вдохнул побольше воздуха и произнёс: