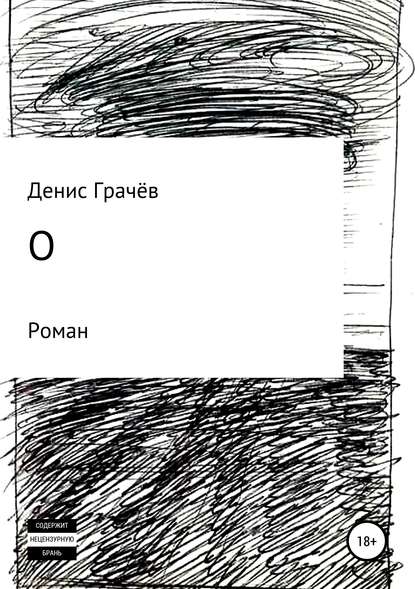По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не могу жить без тебя, сволочь. Я не могу без тебя жить, самовлюблённый негодяй.
А он молча открыл дверь подъезда. Она, тоже молча, но не отпуская его руку своей мелко дрожащей рукой, зашла с ним. Ему стало вдруг очень холодно, и он даже попытался инстинктивно застегнуть негнущимися пальцами расстёгнутый плащ, не попадая, словно пьяный – монетой в прорезь игрального автомата, пуговицей в петлю до тех пор, пока не понял – а понял быстро, на то он и московский умник – всю смехотворность своих попыток уладить реальность перед многоликим лицом нагрянувшего напролом чуда. В петлю, говоришь, кто-то там не попал? Ты уж будь поосторожней с такими фигурами речи, а то они, поганцы (г – фрикативное), имеют обыкновение этакими чеховскими ружьями расползаться по вниманию доверчивого читателя. А ведь он, наивный, он, трёхголовую собаку съевший на всяких деталях и лейтмотивах, не с тебя, безответственного, – с меня спросит в последнем акте, когда пукалка не то что не выстрелит, а скорее всего обратится в детскую рогатку, в морковный салат, в снеговика с гебистской корочкой: почему не предупредил, почему водил нас за ночь, а не за нос, как положено маститому писаке-умняке? Ну хватит уже, серый, мешать неспешному процессу, хватит уже с пылу с жару сшибать мою прозу с ног своими идиотскими комментариями. И, кроме того, нечего провоцировать своего автора (автора! – подчеркну особо, а не какого-нибудь своего товарища по небытию) к патовой рекогносцировке: невместно мне открещиваться как от маститости, так и от дилетантства – егда пишешь незажатой рукой и со свободным дыханием, то сор, пепел и тлен, которые поднимаются движением пера, окутывают строчки наподобие жизни, а ведь негоже роптать на жизнь, даже если она порой принимает двусмысленную форму чеховских афоризмов. Ну загнул, серьёзный, ну загнул так загнул, креативный – опять без пол-литры не разберешь: у тебя, как послушать, прямо не клавиатура, а мусорный мешочек с пылью, прахом и гилью, которому только и есть дел, что облачать жизнь помойными убранствами. Да и с чего мне не роптать на жизнь, кто она вообще такая, эта претенциозная чушка? Если заслужит – а с неё станется – рыкну так, что полные штаны наложит. Но вот что ещё важно для тебя, плодовитый (…ой-ой-ой, какая страшная в своей многозначительности пауза, сейчас я выроню из ослабевших пальцев перо, а из ослабевшего сердца – отвагу, чтобы не слышать фундаментальных выводов о важности для меня чего-то важного): ведь не думаешь ты, что безнаказанно можешь этаким провинциальным Роланом Бартом козырять одним модным и чрезвычайно вредным словечком – автор, подсказываю тебе это пустое словцо, author, Autor, auteur – и отделаешься от меня только чужими испачканными штанишками. Откуда вообще такая лингвистическая спесь: мол, мы тут, видишь ли, авторствуем во всю ивановскую, а значит – и это самое для меня возмутительное – якобы обладаем пунцовой и багровой супериорностью, а вы, марионетки задроченные, кочумаете в небытии. Ошибаешься: наше небытие, может, и покраше твоей худосочной экзистенции будет, наше небытие пахнет резедой и клевером, в нём ничего не невозможно, и в этих возможностях, которые охватывают тебя сладостным кислородом, жить («жить», жить – вижу скептическую улыбку на твоих устах, но я не гордый, могу обозначить своё пребывание по-разному) значительно просторней – словом, здесь не прерываясь на рутину можно постоянно жить в ударе. Но это всё я произнес вслух, а ведь каждая речь, как ты знаешь, говорится одновременно и вслух, и шёпотом, и почти всегда сказанное шёпотом как-то крепче телом: ведь так говорят правду и только правду, а полным голосом – разное. Так вот, на правах истины я выскажу вчетвертьголоса простую мысль, что, с тех пор как мы и вы обросли потребностью в подтверждении собственной реальности, а, обросши ею, мгновенно потеряли в тумане аксиомы, что умели пестовать специфическую уверенность, которую прежний, обычный угол зрения способен был обратить в то самое чаемое доказательство нашей реальности, – с тех самых пор, словом, мы не имеем права на невыносимую лёгкость, с которой некогда отваживались лепить какие-то чудны?е иерархии, располагая пласты этой великолепной, блистательной, всеполнейшей жизни в порядке убывания их реалитэ?. Но ведь жизнь полна собой, она вся насквозь реальна, от неё так же невозможно отдалиться ни словом, ни делом, как и приблизиться, и если уж зашёл разговор о наших с тобой отношениях (не лукавь, серый, никакого разговора я не заводил, это ты мне навязываешь свои невнятные солилоквии), если уж этот разговор зашел, то, будем честны, мы взаимонереальны, мы просто-напросто взаимоне?жить. О, вот до чего мы договорились, вот как, оказывается, может при определённом попустительстве зафилистерствовать дилетант! Ну и что же говорит твой заводной карманный бергсон[14 - Анри Бергсон – французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни.] – нет в этой однородной жизнемагме островков повышенной устойчивости, островочков, существующих помимо или сверх взаимоаннигилирующихся реальностей, точек швартовки к невибрирующему каркасу жизни? Есть, кто спорит – это я всё ещё шепотом, все ещё этаким тишайшим говорком – да только не интересны нам с тобой такие островки: мы дышим раскидистыми мыслями, мы длим себя строками и строками, мы вырастаем колоннадами фраз, а в той офшорной зоне бытия, сколь плодородной для аскетов экзистенции, столь же неблагодатной для нас с тобой, есть место для одной лишь фразы – Мама мыла раму – она и только она обозначает и исчерпывает этот микротопос с повадками параноидального интроверта. Хватит бреда, серый, ты говоришь футбольными полями, а повесть – это поезд, она не стоит на месте, и если правильно объявляет механический голос – при выходе из вещей не забывайте свои поезда – то, пока мама мыла раму, он и она трижды наполнили комнату синим светом, трижды превратили её в октаэдр и своим шквальным дыханием прогрели воздух в ней до полутора миллионов имбирных градусов.
– Это невыносимо, – сказал он, – это невыносимо, когда столько должно быть сказано, и всё то, что должно было быть сказано, просто испаряется при одном взгляде на того, кому это, собственно, и предназначалось. Как эфир.
– Я не могу жить без тебя, – строго ответила Олеся и выжидательно, со значением посмотрела на него.
– Ну что же, – ответил он, и, видит Бог, слова эти дались ему как нельзя просто, – о такой жене, как ты, я мог бы только мечтать.
– Стоп, – резко оборвали его, но ведь совершенно невозможно быть по-настоящему резким, когда у тебя такие лукавые искры в глазах, – стоп, сумасшедший! Я не хочу этого слышать. И самое главное, – она заговорщически понизила голос до свистящего шёпота, – Кирюша не переживёт этого, его надо как-то… м-м… подготовить…
– Прошу тебя, – прошептала она ещё ниже и уже в минорной тональности, когда Пётр в ответ на её предыдущую фразу недоумённо пожал плечами и взялся за трубку телефона. – Я сама найду для него нужные слова. Я знаю, что тебе это не нравится, знаю, что совершаю подлость, но я сама, любимый, сама найду для него нужные слова. Понимаешь? – и на этом занавес, который открылся нам так ненадолго, снова падает, поскольку невозможно чего-нибудь не понять, если лёгкая, легчайшая, нежнее самого нежного летнего бриза ручка сначала притрагивается к, а потом плотненько так охватывает сонный черенок, перевоплощаясь из невесомого атлантического сирокко в плотную, вибрирующую массу тропического шторма.
– Я схожу в душ[15 - В оригинале текста романа фраза окрашена синим. Приём цветовой дифференциации несколько раз повторяется в предшествовавшем написанию романа «О» рассказе «Песнь о прозрачном времени». Как и в тексте «Песни…», здесь нет однозначного ответа на вопрос, для чего использован цвет. Допустимо, что это результат и следствие авторских медитаций на тему многоголосия художественного текста; «цветная реплика» героини – очевидно, одно из аномальных последствий такого «вокального расслоения».], – таковы были её первые слова после часа отчаянной борьбы, в которой то один, то другая вот-вот готовы были задохнуться, в которой, то есть, удушье подстерегало их так близко, что его приходилось отталкивать всем телом, яростно извиваясь, раздирая одновременно усилием огромной, раскалённой воли ссохшиеся лёгкие, и эти первые слова поразили его, как первый крик царственного младенца, потому что за прошедший час он каким-то чудом, юдом, перегудом позабыл, что на этом свете существуют слова, ведь мир прошедшего часа был божественно, прекрасно не?м – не мир, а сплошная сфера торжествующей немоты со сложными, неукрощёнными разводами влажных всхлипов.
– Жду не дождусь, – так ответил он. Но он не просто ответил, он ещё и слукавил, потому что, когда люди произносят эту тоскующую фразу, похожую на глухаря, который раскачивается на ветке, – жду… не дождусь… – они обещают своему милому собеседнику неподвижность и безмолвие, ибо каждый разумеет, что ожиданием нужно окормляться трепетно, с надлежащим вниманием, перерастающим в сосредоточенность, а сосредоточенность, браты мои, болтливой и непоседливой не бывает – бывает она только тугой и убинтованной в скорбное спокойствие, что твоя мумия. И вот в своём яром лукавстве он приподнимает телефонную трубку и набирает номер Кирилла.
– Алло, – отвечает Кирилл, и тут же, с полукашля какого-то узнав Петра, отвечает снова, уже без дежурности, в чьей одежде стартовое алло выглядело пластмассовым парниковым овощем, но с благодушием ужасно зелёного хулигана-пеликана. – У, кого это занесло в наш мирный эфир. А чего это ты так бормочешь?
– Горло, сволочь, барахлит. Да про меня потом, в более урочный и менее тяжёлый для горла час. Слушай, Кирь, не в службу, а вот в это самое – не можешь на выходные поселить одну мою подруженьку милую? Нет, ты её не знаешь. Да клёвая такая чувиха, секретарша моя – ложки ей разные поручаю натирать, чай заваривать, пыль с подоконников стряхивать. Да нет, что ты – рабочий график с этим не клеится. Просто молодуха желает того и этого посмотреть в Питере. Она скотинка смирная, много времени и внимания не отнимет. Сэнк ю аз южуал. Я? когда? Посмотрим, будет видно в самом скором режиме. Олеська-то как? Добра наживает? Ну понятно. Приветы ей по полной, как вернётся.
– Да ладно тебе через мою голову приветами сыпать. Вот она здесь рядом стоит – сам и передай.
– Пётр? – тихо сказала, и от этой тишины, или, точнее, от блёклости этой тишины, приблизительно сравнимой с блёклостью первых весенних цветов, его бросило (настаиваю на этом слове) в какую-то мёрзлую жуть, и потом, уже из этой жути, подбросило ещё раз, так, что он стукнулся о безумие затылком и сдуру ответил:
– А это ты?
Но ведь самым плохим в этой нелепой фразе было вовсе не суматошное удивление, поскольку чего-чего, а удивления-то, оказалось, в этом вопросе и не было: вот злость на виражи судьбы, резкие каждый раз, но из-за частоты этих резкостей мутирующие в направлении монотонности, – это определённо наличествовало; досада на самого себя, неспособного привыкнуть к вспышкам магния после стольких высокоскоростных разворотов, проделанных бессмыслицей, – с этим тоже было всё в полном порядке, но никаких следов изумления – вещества, вообще говоря, весьма заметного – при всей своей пристрастности он не обнаружил. Да и как их было обнаружить, если зачем-то ведь он поднял трубку этого долбаного телефона, если набрал этот проклятый-любимый номер, если ни с того ни с сего прильнул к трубушке-голубушке сердечным приветом. Для того чтобы ложь не была разрушительной, она должна быть бескрылой, а тут Пётр снабдил её столькими крыльями, что она почти стала существом, в которое просто невозможно не влюбиться.
– А кто же? – ответила она, усмехнувшись, и от этого Пётр вздрогнул, поскольку между его вопросом и её ответом пролегла столь могучая, столь обширная ложь, что соединить два её берега могла лишь напряжённая и вдохновенно-искусная инженерия воспоминаний.
– Я страшно тоскую по вам, – мужественно продолжал он, хотя самым честным было бы просто сказать ей: вы оба ужасаете меня, я боюсь вас по ледяной дрожи. – Надеюсь увидеться ежли не на этой, то на той недельке определённо.
– Да ты что? – крикнула она обрадовано. – Ты себе представить не можешь, как мы будем ждать тебя.
– Спасибо, друганы дорогие. Ну давай, до скорого, а то я как-то опасаюсь голос посадить.
Смешон голый человек, сидящий в задумчивости. Еще смешнее голый человек, сидящий в растерянности. Печален обнажённый, сидящий в смятении. А Пётр был разным, попеременным: он начал с задумчивости, а кончил смятением, потом вернулся к задумчивости, а по истечении оной не был уже никаким, поскольку одетый человек по сравнению с обнажённым, конечно же, никаков. Хотя, впрочем, и в этой замкнутости можно было кое-что различить. Сосредоточенность, например. Какую-то странную решительность. Суровость, я бы даже сказал. Или, возможно, настороженность по отношению к этому миру, которая на посторонний взгляд может представляться суровостью.
Так что она, конечно, удивилась, но ведь люди выдержанные и поднаторевшие в удачном освоении зигзагов судьбы становятся в чём-то сходны с медовым омутом: удивление, конечно, встряхивает ненадолго поверхность их лица, но крутая, почти ртутная плотность омута мигом сглаживает эти сейсмические волны, а ведь лицо – единственное, чем они ещё не разучились удивляться: остальное тело привыкло забывать любые изумления.
– Кататься, – только и произнёс он, и даже если бы она не поняла его с полуслова, ей бы пришлось в авральном порядке осваивать азы сверхзвукового понимания. Поэтому-то ей было лучше обрадоваться или, по крайней мере, сыграть в радость, что она и сделала: какими-то заполошными, как бы захлёбывающимися движениями стала натягивать наугад одежду, с той же размашистостью в жестикуляции побежала в ванную подкрашиваться – и наконец мелко, как песочек через ситечко, затрусила с ним рядом по лестнице, клюнула по пути расчёской во чело и темечко, преобразив текущую, рабочую растрёпанность в пасторальную пригожесть. И всё-таки он был быстрее, коброй нырнув за руль: машина уже завелась, когда она ещё забиралась в салон, сложно, как в конструкторе, сгибаясь в четвёртую погибель. Она не успела захлопнуть дверь, а двужильный мотор уже, сходу взяв высокую моторную ноту, с опасностью для собственного сердца рванул большое, железное, самокатное тело с угнездившимися в нём двумя живыми самоходными те?льцами в направлении больших дорог, и там – выбравшись, то есть, на широкий асфальт – уже дал себе полную волю: забрал квинтой ниже, дополнительно провентилировал лёгкие пенными струями бензина и наконец размахнулся по полной, придавив так резво, что проезжающие мимо авто как-то смазались и чуть ли не растаяли, как будто ими поиграл хороший импрессионизм. И кто же, скорость, тебя выдумал, где ж возрастала, где училась ты просторному ремеслу разгульности? Не даёт ответа, как любая грубая сила, которой начхать на учтивость любого формата. Молчит в тряпочку, поскольку такие умные сущности всегда организуют себе по принципу рекреативной сонной лощинки специальные тряпочки, в которые можно молчать с комфортом, без того чтобы считаться беспомощно растерянным перед лицом острого вопроса.
Он рывком остановил машину у Ленинградского вокзала. Хотя внутри него сверкали ледяные молнии, серьёзно отвлекавшие нашего водителя ото всего и вся, он всё же успел узреть со злорадным удовольствием, как его спутница, чуть было не проткнув твердейшим носом лобовое стекло, похолодела лицом, очевидно, поняв, что? там дальше должно приключаться с ними с двоими.
Он только посмотрел на неё искоса, а она уже сказала раздражённо:
– Можешь не объяснять ничего. Я всё поняла. Провожать не нужно.
А он и не собирался провожать. И у него были свои резоны, чтобы не смотреть на то, как она стремительно и мягко, будто скользя по льду, удаляется, всё глубже проникая в вокзальную толпу, которая, как и свойственно вокзальной толпе, взбулькивая, кипятилась на медленном огне. Так почему же он не стал смотреть ей вслед? Ведь этот несвершившийся прощальный взгляд, заранее, до своего рождения готовый истово облобызать удаляющийся силуэтик с макушки до пят, не брезгуя и налипшим уже на подошвы вокзальным мусором, казалось бы, ничем не рисковал, он был бы невинен, поскольку незаметен, он был бы необязателен, поскольку силуэт уже удалялся, на полную катушку осваивая ресурсы своей змеиной грации. И всё-таки Пётр был умней каких бы то ни было сослагательных взглядов. Он перевёл дух и тут же надавил на газ, твёрдо зная, что такие вот удаляющиеся спины умеют гипнотизировать получше иных многоопытных факиров и что немного радости быть растворённым этой спиной, как немного счастья, провалившись в неё, в ней захлебнуться. Прощающаяся, утекающая спина – вообще страшное и почти безотказное оружие против здравого смысла, и в этом случае даже не важно, какая она там, любимая или ненавистная: наша внутренняя собачка, навечно прикомандированная к нам лестницей эволюции, так и норовит броситься вслед за ней, нагнать, закогтить, вонзиться в. Держись подальше, дорогой читатель, от этой части тела, вдвойне же подальше держись от неё в районе железнодорожных и автобусных вокзалов, корабельных пристаней и аэропортов: ведь в этих междуместах она уже почти и не спина, она сирена, она русалка с особо обширными навыками.
И ведь самое обидное, что он всё сделал правильно – взял пива, креветок, хорошенько охладил его, сварил их, окропив целым лимоном, включил телевизор и смотрел, запивая, до тех пор, пока перестал что-либо понимать в движущихся этих цветных картинках, – и всё равно она пришла ночью. Вошла очень уверенно, хотя и не через дверь, а откуда-то прямо из угла, пока Пётр сидел в неудобном, угловатом, жёстком, перекошенном кресле и пытался прочесть письмо, которое отец написал ему на незнакомом языке. Он был раздражён на отца, но она быстро охладила его раздражение одним сообщением, которое высказала просто и твёрдо, даже с некоторым акцентом жестокости: «К Вам кое-кто приехал»[16 - В сцене общения главного героя с фантомом из сна возникает необычный эффект «видимой устной речи»: Тонкая Женщина обращается к Петру явно звучащим словом – но передаёт её письменная форма обращения («Вы» с прописной буквы).]. А он стоял перед ней молча и медленно – настолько медленно, насколько это позволяло желание скоропостижно сбежать, а ещё лучше – безмолвно и бесследно провалиться сквозь землю, причём даже необязательно в сторону рая. Или же, если мы решим стать ещё точнее, мы не дыша, но с пером наготове приблизимся к этому испугу, чтобы сказать – о, внимательные, о, терпеливые, то было не просто желание утечь, то была самая что ни на есть породистая, ядрёная страсть к побегу, непонятная, увы, любому, кто ни разу не встречал Тонкую Женщину. А ведь ничего особенно страшного-то в ней и нет. Она же не волк какой-нибудь. Не верволк. Ну, худоба такая особенная, к которой так и клеится идиотский, но точный эпитет неестественная – такая, словом, что при одном взгляде на неё начинает слегка подташнивать. Ну, цвет лица сероватенький, который всегда во сне кажется зеленоватым. Ну, одёжка эта невменяемая, древнеобразная, как чья-то сползшая кожа, старческая, рыхлая, затрёпанная. А так обычная тёхана, каких в жэках и дэзах просто пруд пруди. И хотя обычно люди во сне склонны больше чувствовать, чем понимать, Пётр каким-то восьмым или девятым сверхчувством, которое уже почти граничит с разумом, решил, что, пока в тебя всматривается Тонкая Женщина, у эмоций отсутствуют шансы вести себя хоть сколько-нибудь пристойно, и, раз для страха, который обратил всё тело в тяжёлый лёд, нет никаких видимых причин, то их, причин, невидимость – это хороший повод не замечать их, или, говоря дальше от пустых словоформ, норовящих прокатить на бодрячка, но ближе к реальности, это весомая возможность для того, чтобы научиться поступать, разговаривать, мыслить независимо от страха, спокойно, с достоинством принимая его неизбежное присутствие. И поэтому он, злясь на самого себя и не скрывая своей злости, ответил ей: «Я никого не жду».
– Ждёте-ждёте, – сказала она убеждённо, и что-то на её лице искусственно усмехнулось. – И прошу Вас впредь не лгать. Разве Вы не знаете, что ложь всегда – уверяю Вас, всегда наказуема. И чем больше лжи, тем серьёзнее, друг мой, наказание.
Только не начинать оправдываться, умолял он сам себя. Обвинение начинается с оправданий, и она ждёт их, ой как жадно ждёт, хоть и старается казаться равнодушной к тому, что? ты там ей отвечаешь.
И тогда он усмехнулся, хотя с самого начала знал о непростительности своей усмешки. «Я никого не жду», – повторил он уже почти твёрдо, и Тонкая Женщина с деланным сочувствием развела ровными руками, как бы обозначая в воздухе размер его прегрешений: во такенную жопу отъели грехи твои тяжкие, Петруша, трясти их не растрясти. Главное – не увидеть её спину, вдруг подумал он, и тут она сделала что-то такое, отчего он мгновенно проснулся, или, точнее, выпал изо сна, словно из мчащегося на всех пара?х поезда, как случается и у нас, простых статистов этой повести[17 - Заявление от лица фиктивного нарратора (он же главный герой Пётр) про «нас, простых статистов этой повести», явно относящееся к фиктивному читателю (к кому же ещё?), констатирует нахождение их «обоих-троих» в статусе равноправной когнитивной коллаборации. Сей небывалый симбиоз – ещё одна экзотическая квази-сущность в этом [щедром на них] повествовании.], когда сердце, чувствуя, что вот-вот лопнет от ужаса, и не имея никакой возможности избыть этот ужас внутри сна, передёргивает во имя жизни карту онирической логики, просто-напросто вырывая нас изо сна грубой рукой.
Он открыл глаза и сел на кровати без малейшей опьянённости сном: обычного, войлочного, приблизительного междусонья не последовало; трезвость твёрдого сознания пришла естественно, как сдача с крупной купюры. Потом он, подцепив ногтями безрукий ящик тумбочки с вечно светлым, незагорелым следком от потерянной ручки, трудно выдвинул его и долго рылся, горстями разгребая пластмассовый, бумажный, алюминиевый тлен использованных авторучек, сломанных карандашей, чахлых листочков с неведомо чьими телефонами, изогнутых жизнью одиноких скрепок, пока не обнаружил мятый бумажный кармашек с какими-то старческими подтёками неизвестного происхождения, в котором согбенно хранились три стародавние сигаретины, выбрал из них наименее согбенную и, отчиркав положенный десяток чирков по драному боку коробка?, дежурившего с незапамятных времен вблизи ночной лампы, закурил избранницу жадно и энергично, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох-вдох. И хоть в этой никотиновой ингаляции слышалось истерическое придыхание, оно не могло отвлечь Петра настолько, чтобы мохнатая, серая, дымчатая тень, метеором мелькнувшая за окном, осталась незамеченной.
А ну-ка стоп, говорю я, это ещё что за фигня? Это уже выше всякой меры, зоологический! Посади свинью за, она и ноги на: позволили тебе тут притулиться с краешку на правах приживалы-прихлебателя, а ты уже норовишь въехать в моё славное, размеренное, размеченное повествование на правах полноценного игрока. Во?т мы тут какие таинственные, серой тенью скользим загадочно, будто ночная венецианская гондола, а на прекрасную гондолу-то ну никак не тянем: морда страшенная, в собачьих побоищах ваших траченная, нос грубый, как шиш, запах болотно-мускусный. Всё, я чувствую, бесполезны все эти призывы к совести, к сознательности и ответственности – у нас, животных, я вижу, особенная гордость и особенная стать – так что позвольте, господин хороший, распрощаться с вашей благородной особой. Извольте метаться шерстяной молнией в установленных обычаем местах, а посему, дражайший, мы отсюда выметаем вас самой что ни на есть железной метлой. Ну-ну, это ты? постой, паровоз, хорош колесами стучать. Выметает он меня, посмотрите на него, какой благородноогне?ванный. Я тут проявляю чудеса выдержки, чтобы не вцепиться этой жердяйке в её поганое горло, а он меня корит за безобидную пробежку навстречу охлаждающе-упокаивающему зюйд-весту. Ничего страшного, побегаю и перестану: это у вас пруд пруди оказий успокоить нервишки после бурной встряски (вот и у тебя я вижу стаканчик красного вина на письменном столе), а у нас что – побегать да сожрать кого-нибудь. И к тому же, ну какой твоей прозе прок оттого, что я вдруг покину эти тишайшие страницы: письмо твоё скучно, маслянисто и задумчиво сверх меры, а мои спортивно-увеселительные забеги вдыхают в неё воздух скорости и обязательной для хорошей прозы необязательности. Так что давай уж не самодурствовать попусту. А ведь, позвольте вмешаться, правильно Вы говорите. Ну что сто?ит досточтимому автору дать местечко паре-тройке чрезвычайно уважающих его персон, для того чтобы они, высказываясь в приличествующем духе, сообщали читателям свои скромные мнения о происходящем на сих повествовательных подмостках? Это ещё что за чертовщина? Кто это ещё тут объявился? Вот так и бывает: захочешь отдохновения, призадумаешься о том о сём, а у тебя уже вместо прозы – проходной двор. Нет уж, извините великодушно, при всём к Вам уважении я не могу отнести ни себя, ни, тем паче, моего коллегу к случайным визитёрам проходного двора. Позвольте напомнить Вам о своей персоне, хотя за этим напоминанием и могла бы брезжить не то чтобы обида, но как бы её возможное очертание. Я ведь, собственно, дитя Ваше, отнюдь не блудное, дорогой писатель[18 - Ударное «е?» поставлено автором.], я создан именно Вами и именно Вами в небрежении заброшен на самые задворки сюжета, дабы прозябать в безрадостных сумерках полуприпоминания. Я – Петушок Таврический, и голос мой так зво?нок от горя и лишений, которые подстерегают в немилосердной бездне читательской амнезии каждого, кому случилось мимолётно и только мимолётно запечатлеться на бумаге. Ну, знаешь ли, дорогой-золотой, эта твоя логика ублажения всех занятых в массовке только и оставляет, что два равно унылых пути: либо бесконечная репликация камерных постановок а-ля «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» (в ролях – Сосна Егоровна и Пальма Леонидовна), либо небывалая и неслыхалая помесь дурдома с Ходынкой, где все говорят разом, одинаково громко и с бурной жестикуляцией. Да уж, представляю себе видоизменённое лицо читателя, на которого со страниц книги вместо вразумительной и гармоничной авторской речи обрушивает всё своё хромоногое творчество какой-то удалой джаз-бэнд из бедлама. Да это Ваша богатая фантазия подсказывает такое развитие событий, многоуважаемый автор. Уж поверьте мне, далеко не каждый силуэт, проскользнувший по страницам книги, обладает достаточной жизнью, чтобы претендовать на самовитое, полноценное слово; силуэт силуэту рознь, и если один вполне может удовольствоваться непешеходной и безмолвной ролью мебели, которую автор расставил по своему усмотрению вдоль живого сюжета, то другой, несравненно более редкой тени, отброшенной истинно талантливым пером, пусть даже ставшим таковым всего лишь на краткий миг, невмоготу молчание, породнившееся с неподвижностью, эта тень взыскует участливого внимания. И да не покажется Вам моё слово краснобайским парфюмом, но, по моему убеждению, выстраданному в унылом погребе забвения (вот это слог так слог, я сейчас обос~сь от такой прекрасной красотищи), автор – которого я, невзирая на все нынешние конвенции хорошего вкуса, писал бы-таки с прописной буквы – несёт самую настоящую, то есть плотную, крепко сбитую (бриллиантовую! бриллиантовую!) ответственность за созданный им мир в целом (эй, а почему ответственность не с прописной буквы?), и за каждого из насельников этого мира в отдельности. А чего, правильно курятина выражается. Ты, дорогой-уважаемый, рулишь там сюжетом, или, как говорят знающие люди, фабулой – ну и рули ею на здоровье, пиши про своих этих полюбовников, про всякие эти их приключения, мы же к ним в друзья не лезем. У них – своя поляна, у нас – своя. А кому весь этот щебет наш слышать томительно – аля-улю, тут, как у матросов, ни у кого нет вопросов: переворачивай страницу и продолжай с миром читать, чего с Петром твоим любимым дальше было. Кому от этого вред? Вот смотри, талантливый; дай-ка я тебе разъясню собственную твою пользу, а то ты у нас, я вижу, глуповат, как и любой поэт. Во-первых, пока у нас тут лясы да балясы, ты вполне можешь прогуляться там до туалета, например, или бутер себе какой-нибудь смастерить: как говорится, солдат с~ – служба идёт. Ты ж должен понимать, во-вторых, не маленький, что издатель тебе за всё бабла отвалит – и за твои высокохудожественные навороты, и за наши непритязательные посиделки. Так что чего нос-то от нас воротить? Вот бы мне так жить: другие на тебя ишачат, а ты знай успевай капусту получать. Да и вообще, милок, подумай о читателе: ну какой нормальный человек выдержит всю эту твою мрачнятину, если она будет переть сплошняком? Уж извини, но я тебе своё мнение выскажу: так уже давно не модно писать, язык должен быть лёгким, понимаешь, о чём я? – лёгким, чтоб читалось легко (лёхким, хотел ты сказать, серый? Так и говори, не стесняйся): фразы должны быть ко-рот-ки-ми и без всяких там ампирных прикрас, они конкретно цеплять должны – прочёл, прикололся и ходишь потом целый день с этой фразой в голове, потом еще чувакам знакомым её пересказал, так и они прикололись, потому что когда сказано коротко и клёво – так оно и в Африке клёво. Поэтому, продолжаю я свою мысль – следишь ещё за нею? если сложно, могу вернуться, разъяснить – нужно всегда с таким как бы юморком писать, чтобы воспринималось лучше, а то без юморка сейчас не особо-то читать любят. Когда с юморком-то, оно лучше в голову ложится, это тебе любой там издатель скажет…
И вроде бы всё пошло?, как всегда, и вроде бы та же ткалась кругом жизнь (эй-эй, не перебивай, дай договорить-то…), но время отчётливо ускорило ход, потеряв при этом обычную свою чёткость. Каждый знает, что ускорившееся время пропадает из фокуса, смазывается, порою делаясь совершенно неразличимым на перегонах и превращая, таким образом, свою абсолютно абстрактную скорость в совершенно конкретную неразбериху. А неразбериха, сообщаю тем из вас, друзья мои, кто не знает, – это акциденция дьявола, и если вам однажды случилось нырнуть в сумятицу, чепуху или абракадабру, то будьте готовы к тому, что выныривать придётся, подобно тому как это пришлось делать нашему многострадальному герою, в старом деревянном доме на окраине провинциального городка с оптимистическим названием Курган, с ветками сирени, крестом прикреплёнными на окнах и входной двери, с «магнумом», чью рукоятку лихорадочная, бешеная ладонь разогрела до баснословных температур, а самое главное – с кипящим, обжигающим и совершенно неумолимым страхом в душе.
Впрочем, говорим мы старомодно, как типичный зануда-немец из исторических анекдотов, и воздымая указательный палец, не будем скакать с пятого на десятое, а телегу запрягать впереди лошади, ведь деревянный дом появился уже значительно позже, когда произошло вот то и случилось вот это, а до печальных сих событий жизнь двигалась примерно таким манером:
Следующее утро в жизни Петра случилось настолько просторным и вольготным, что тени и шорохи, равно как крики и шёпоты[19 - «Шёпоты и крики» – фильм Ингмара Бергмана, одного из любимых режиссёров Дениса Грачёва.] минувшей ночи не то чтобы стёрлись, но, под каскадами широкого солнца и новорождённого, с иголочки норд-веста, под ливнем живых птичьих голосов, оказались как бы так несколько подтопленными. Откуда столько птиц, подумал Петр, и эта мысль, хорошая, прямо скажем, мысль, целительная, была главной на протяжении всего утра.
Это уже потом, в середине дня, когда дела захватили достаточно плотно для того, чтобы не дать чертовщине утащить на дно, в свою берлогу смятенную душу молодого нашего юриста, он крепко взялся за то, за что не взяться означало бы только одно – получение путёвки на такие приблизительные курорты, въезд в которые сам по себе предполагал скорейший выезд где-то в районе скромной, но крепко своё дело знающей петли либо дома имени Марии Вифлеемской. Одним словом, отринув колыхания, которые так и норовили провернуть его через неласковую печальку всей его целиковостью, он вызвал Любочку и скорее приказал, чем предложил ей поехать в Питер. Несмелый лепет про другие планы на выходные был смят суровыми напоминаниями о необходимости отдыха (да подальше, подальше от Москвы развратной и грязной), и уже через пару-тройку минут Пётр, вручив ей листик с одним незабвенным адресом и не менее незабвенным телефоном, вежливо вытолкал Любочку из кабинета навстречу наспех придуманным делам.
А вечера тем временем приучали его к виски, и этот напиток – творческий союз чая, мёда и самодельной водки – на глазах сделал его старше, в чём были своя правда и свой подвиг: ведь старше становиться всегда сложнее, чем молодеть. Или, точнее сказать, старость требует трудной и одинаковой силы, в то время как юность – всего лишь пестроты впечатлений, которая без труда вызывается легкомыслием, закамуфлированным под широкую свободу. Посему неудивительно, что за этим одинаковым трудом взросления Пётр не заметил выходных, обычно таких ярких, а теперь – серых. Яркими оказались будни, и уже одно это должно было бы насторожить: рациональное использование жизни, как знает любой карапуз (на верёвочке арбуз), предполагает обратную иерархию недели, в чём есть своя, кристаллически правильная сермяга.
А началась эта болезненная яркость будней с возвращения Любочки, что может быть странно только внимательным читателям нашей рассказки, но вовсе не тем, кто имел бы сомнительное счастье наблюдать её первый рабочий день по приезду из умного, прямоугольного с виду, приятно-полого города Санкт-Петербурга.
– Как вы посвежели, Любочка, – пропел Пётр, ещё не понимая того, что нужно не петь, а собирать весь свой скудный скарб во лукошко и реактивно удаляться, всетщательнейше заметая за собой следы, в такие садули и огороды, где от пустынности и безлюдья раз в декаду любой цокотухе с благодарностью пожмёшь мохнатую лапу, – морской воздух явно пошёл вам на пользу.
– Вы полагаете? – спросила она – а точнее, не спросила, а сказала с самой что ни на есть утвердительной интонацией, которая упруго поставила истца на некое узкое и холодное место.
– Полагаю, – ответил он, уже не играя в игривость, а пытаясь своим ответом нащупать размеры той опасности, которая явно сквозила в двусмысленном Любочкином утверждении-ответе, и, не услышав ничего в ответ, а следовательно, не нащупав искомого, он сказал ей со всей непосредственностью, прямотой и искренностью искусного лгуна: – Ладно, это всё ерунда. Давайте за работу. Дел – завались, так что все подробности – до вечера. Итак, начнём с нового егоровского иска к «Росинтербизнесконсалтингу», или, как говорим мы, профессионалы своего дела и пламенные борцы за законность в этой стране, к «Роскакашке»…
Нимало не улыбнувшись, она правильно сделала: не менее половины пазлов стало у Петра в голове на место, и живописный силуэт ясности, блаженной и желанной, начал уже полупрорисовываться, полувыступать из цветного-неопределённого импрессума их первой, пробной встречи. И он пошёл дальше: он попусту громоздил подробности этого пустякового иска, он перебивал сам себя, уточняя и без того ясное, – словом, делал всё, чтобы достичь самого высокого градуса дотошности в прощупывании того тревожащего ледка, которым покрылась Любочка за время своего отсутствия. Нельзя сказать, что скольжение по нему было приятным, как нельзя сказать и того, что оно было каким-то чрезвычайно плодотворным для понимания генезиса этого ледка. Молекулы льда, вероятно, имели на сей счёт свою секретную правду, но ведь на то она и секретна, чтобы, взяв пример со славных советских партизан, молчать о себе при посторонних враждебных вопрошателях. Впрочем, кое-что эта прогулка по льду таки дала. Дала она, например, одну чрезвычайно важную убеждённость: что из города Санкт-Петербурга после увеселительного уик-энда вернулся, извините за ходульность, совсем другой человек, чьи смысл, предназначение и цели пугающе непрозрачны, и непрозрачность эта тем более пугающа, что находится в некоем загадочном резонансе с тем сложным холодом, который окружил Петра в последнее время. Ладно, сказал он себе, выпроваживая своего секретаря, подождём конца дня.
А чего его было ждать? Конец дня – умник тот ещё, так что с появлением тормозить не стал. Он нагрянул нечаянно, как любовь, а Пётр так и не успел понять, как же его приход поможет прояснить структуру Любочкиного льда. Поэтому Пётр сделал то, что, по его глубокому убеждению, было единственно возможным: он затаился.
Лучше бы он этого не делал. Ведь опасность-то бывает разная, и тактика глубокого камуфлирования действенна только в том случае, если опасность однозначно смертельна, смертельно глупа и глупо прямолинейна: тогда её очертания вполне определённы, а сама она слепа, глуха и лишена обоняния, так что у затаившегося есть все шансы пересидеть наобумные взмахи её косы. Другое дело, если взгляд у беды задумчив и двусмыслен, а ухватки путанны, как скороговорка про Карла и Клару: у этой сволочи острейшее обоняние, а поскольку у гремучей взвеси надежды с отчаянием запах отменно резок, то затаившийся быстро и резко получает клинок в сердце. Пётр был обречён своей надеждой на спокойствие. Он был обречён надеждой на возможность просто пересидеть туман, не переигрывая судьбу на её поле, и, что самое печальное, знал об этой своей обречённости даже не слишком втайне. А потому он удивился скорее просто для проформы, когда вечером его задумчивые игры с перелистыванием старого номера «Еженедельного журнала» были прерваны скрипом двери и вкрадчивым покашливанием, которое теперь, в этот день и час, стало для нашего несчастного героя штукой посильнее любого грома небесного.
– А, Любочка, – фальшиво пропел он, – что-то новенькое?.. Я тут засиделся что-то, работаючи…
Но разве можно позволять себе брать фальшивые ноты, когда беда настолько рядом? Ведь беда никогда не слышит фальшивых нот, на которые отчаявшийся опирается, как на спасение; для беды их просто не существует, и она духовидчески зрит мимо них, прямо в общий корень всех отчаяний и безысходностей, которые теснятся, взаимопопираясь, в груди погибающего. Поэтому-то беду, принявшую обличье Любочки, нимало не заинтересовал весь этот малоубедительный лепет (нет, меньше, чем лепет, – трепет, пол-, четвертьтрепыхания!), беда сразу взялась за важное, которое по совместительству всегда очень страшное: невзирая на [оцепенение] Петра, который сполна и, надо сказать, первый раз в жизни прочувствовал на себе затейливое ощущение, рождаемое шевелящимися на голове волосами, беда бестрепетно расстегнула, бестрепетно извлекла, бестрепетно нагнула над извлечённым голову и какими-то специальными, сложными движениями губ и языка заставила кровь погибающего настолько ускорить свой бег, что она, как на центрифуге, разогнала бедное, бедное, студёное тело из состояния оторопи в состояние сладких, но мучительных спазмов. И когда тело пролилось весенним дождем из миллионов фиалок и незабудок, произошло то, чего Пётр, как это ни удивительно, втайне ожидал. Впрочем, не будем поддаваться лукавству указательных местоимений, поскольку, говоря это или то, такого или этого, let’s keep in mind that лукавая сия словоформа имеет на самом деле в виду нечто настолько приблизительное, далековатое, сумрачно-рассветное и всеобще-всемирное, что человеку строгих мыслей и твёрдых образов, каковым по определению является любой писатель, должна строго-настрого претить эта отземлённость сказанного, эта многозначительная пустота вымолвленного, и он, писатель, дабы быть честным по крайней мере с собой, должен переписать вышеозначенную неопределённость примерно на такой манер: Когда с Петром случилось первое, сладчайшее случившееся, он уже предугадывал, что за ним должно последовать второе случившееся, несравненно менее сладчайшее, или, говоря прямее, нечто ужасное. И пусть читатель не сетует на меня за контрабандное нечто, которое в иных случаях тоже проходит по разряду неопределённых, излишне раскудрявых паразитных словес, поскольку и писатель – человек, и он, несмотря на твёрдое перо, имеет дрожащую руку, и эта дрожащая рука просто-таки отказывается давать стопроцентно внятные дефиниции тому, что последовало за первым, милейшим случившимся. А последовало, дорогие сограждане, то, что милая Любочка, дитя офисов и приёмных, вначале подняла глаза, и эти глаза были вовсе не карими Любочкиными глазками, почти детскими в своей вечной удивлённости этим миром, это были чёрт-те чьи изумрудные, холодные, прозрачные очи, похожие на какой-то опасный инопланетный минерал, глаза-линзы, знающие об этом мире всё из первых рук. И когда Пётр понял, что вот сейчас должно стать страшно, то есть не просто страшно, а страшно до тошноты, он резким, как удар хлыста, усилием воли опустил своё сердце вниз, в желудок, и на его место тут же хлынула в распахнувшиеся шлюзы льдистая магма. В ней-то и было спасение, она-то и стала глухонемым противовесом кошмару, который было начал уже разворачиваться на вираже, она, дорогая, хладная, что твоя Арктика, настолько цепко оккупировала грудь, что и голова, вначале полыхнувшая горячкой и расплывшаяся, остыла, застыла и даже возмужала настолько, что отважилась взглянуть прямо в летейские сии очи и с безучастием, которое и деланым-то не казалось, поинтересовалась:
– Проглотила?
– Проглотила, – сухо ответили прозрачные глаза Любочкиным голосом.
И с этими словами, спокойными, никакими, которые могли быть сказаны любой цацей в любой точке этого мира, она отстегнула его уставшее животное, бережно обернула носовым платком и положила в карман курточки.
– Ну что же, Пётр Алексеевич, – проговорила она назидательно, – в сложившихся обстоятельствах, как это ни печально, придется искусственным образом ограничить вашу слишком бурную активность, которая в последнее время просто-таки бьёт все мировые рекорды. Теперь для этой активности будут определены соответствующие часы, и ваш уважаемый предмет будет вам выдаваться в соответствии с графиком. Доброй ночи.