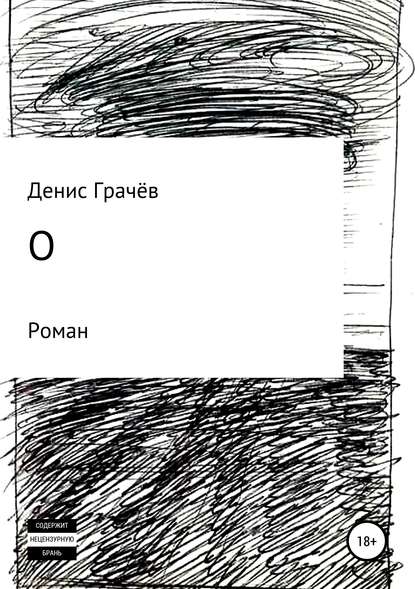По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это я уважаю, – продолжал Алмаз Аметистович, направив к свету казначейский билет и вперившись испытующим взглядом в усталые глаза Франклина, – это – настоящие деньги. Кстати, недорого домик вам сдаю. Специальная, так сказать, цена для хороших людей. Приятель ваш постарался. Он, случаем, не из братков?
– Ну, вроде того, – счёл за лучшее ответить Пётр, виртуозно поразмыслив годик-другой (или, возможно, немного меньше – я ведь авангардный писатель, дорогие читатели, поэтому, хочешь не хочешь, вынужден время от времени крутить вам мозги).
– Я сразу почувствовал – серьёзный мужик, – довольно крякнул Аметистыч, размеренно, капитально упаковывая банкноту куда-то глубоко в диафрагму.
– Через месяц увидимся, – прогудел он и почему-то погрозил Петру килограммовым пальцем. С размаху припечатал к голове кожаную кепку. Медвежьей походкой заковылял в сторону условной калитки, почти мифологической, лоснящейся от темноты, и, хрустнув её суставом, скрылся за произраставшим справа от калитки ракитовым кустом, переместившись, таким образом, из полынно-бурьянного кургана-мургана в кровожадную колыбельную, от которой в эту ночь не один курганский младенец вздрогнул и заплакал в своей люльке из ивовых прутьев невесомыми горькими слёзками. Одним словом, случилось так, что этой ночью ein ракитовый куст, этот или другой, поэйдетичней тутошнего, оказался востребован убаюкивающими мамашами, а потому их крохи, свекольные от судорожных рыданий, наплакали влаги на целый осенний дождик, первые капли которого, такие несмелые, что даже нежные, сначала с усилием, пугливо, хоть и твердолобо, пролагали себе непростой путь сквозь кисельный вечерний воздух, ну а потом, конечно, разогнались и повеселели, посыпались гурьбой, и вот эта вот залихватская, жидкая поднебесная пальба продолжалась и длилась, велась и не прекращалась полно?чи, пока вдруг сквозь испаряющийся, исчезающий дождик не показалась неправдоподобно круглая, циркулем вычерченная луна, как бы до краёв налитая светящимся лимонным соком, и пока лимонный, кислый свет не затопил пустынные городские улицы и подворотни, перекрасив город в такие чудесно-вкрадчивые цвета, которые сразу придали ему, сирому, значение, и город, хотя бы всего на одну ночь, зазвучал на октаву выше, словно бы он был перед пожаром или перед наводнением.
Но в это время Пётр, успевший уже запечатать входы и выходы цветками сирени, крепко спал и не видел снов. Дышал он во сне ровно и чисто: ладно постарался липкий этот лунный свет, плотненько склеил Петру уставшие веки, из-под которых совсем недавно ещё проистекал и высачивался самый что ни на есть неимоверный ужас (на крыльях ночи) и которые ныне, в этой крепкой, надёжной темени, словно бы выточенной из ценных пород дерева, прямо-таки мироточили, разглаживая поверхность сна елейно и пристально, так чтобы ни шва, ни складочки – только бездна чёрного молока. И Пётр чуть ли не улыбался этой бездне, хорошо так, по-доброму чуть не улыбался, ведь иногда, как мы все знаем, улыбка кажется менее правильной, чем простое русское спокойствие, которое, как ни крути, более уместно перед лицом той опасности, что красной, несколько даже назойливой в своей красноте ниткой вьётся, змеясь, вдоль нашего сюжета. Но, стоит всё же признать, хоть это спокойствие далось Петру самим Богом, хоть оно и было цельным, плотным и гладким, как… ну, что ли, как дирижабль, но на поверку оно оказалось неглубоким: ведь достаточно было тоненького, вкрадчивого стука в дверь, чтобы спокойствие мигом испарилось вместе со сном, а Пётр, тут же переквалифицировавшись из какого-то такого неподвижного бурдюка в гибкого, гуттаперчевого примата, одним движением (или максимум двумя) надел рубашку и брюки и, по-шпионски конспиративно ступая босыми ногами по хорошо оструганному, шелковистому полу, не дыша, с правой рукой, спрятанной за спиной, подошел к тонкой деревянной двери. Из-за двери дуло, и это как-то отрезвило Петра, несколько понизив его гуттаперчевость и шпионскость, хотя, конечно, то, что было в правой руке, спрятанной за спиной, – ЧОРНЫЙ СТРАШНЫЙ ПИСТАЛЕТ – хочешь – не хочешь вносило в ситуацию известную кинематографичность, поэтому вполне естественно, что Пётр отдал-таки дань Голливуду, приоткрыв дверь лишь чуть-чуть и очень осторожно, так чтобы создать интригу, своего рода динамический контраст между спокойным, даже ледяным лицом, видимым незваному визитеру, и беспокойной, невидимой, нервной, влажной ладонью, стискивающей рукоятку «Магнума».
Впрочем, Голливуду пришлось очень быстро свернуться. И дело было, разумеется, не в актёре, который подкачал в ответственный момент, не отыграв до конца или не справившись с собственными страстями, дело было только в Режиссёре-Постановщике, поскольку любой Кларк Гейбл и Мел Гибсон как минимум покрылись бы испариной и пятнами, позабыв о «Магнуме», автомате Калашникова, базуке, пулемёте «Максим» или что там ещё они таинственно прячут за спиной в таких коллизиях, если бы перед ними в дверной проём вместо ожидаемого лакированного немецкого агента (бегающие, как мышата, глазки: «Ихь бин есть американский сержант Вальтер Смит, дайте мне ваш секретные карты») или кудлатого, пьяного босса русской мафии (доставая гармошку из кармана, с порога норовит медвежьим голосом запеть «Калинку-малинку») заглянул тот, кто заглянул в лицо Петра, – петушок в человеческий рост с проницательными еврейскими глазами.
И, знаете, сердце в такие моменты начинает как-то предательски гулять, не выполняя своих обязательств перед хозяином, оно, то есть, начинает подло, совершенно не по-дружески обращать на себя внимание, то цепенея, то каскадом выдавая танцевальные па имени святого Витта, поэтому Пётр, чтобы привести его в порядок, аккуратненько так, без паники и спешки, но в то же время плотно прикрыл входную дверь и немножко отдохнул, бездумно глядя на её линейную и гладкую (будто бритую) поверхность. Паутинки трещинок, равно как и годовые кольца, закрученные в терракотовые галактики и вытянутые косыми дребезжащими струнами, очень интересовали его; если бы то было в его силах, он мигом засел писать о них докторскую диссертацию. Но вместо этого он так же аккуратненько, так же неспешно, как закрывал дверь, теперь открыл её и взглянул в хасидские очи Петушка.
– Мне нужно вам кое-что сообщить, – проговорил Петушок странным сдавленным голосом, как если бы он всё время подавлял назревающее квохтанье. И, видя, что Пётр библейски застыл, безучастно взирая на него в холоде и отрешённости, заговорил быстрее, сам перебивая себя: – Да пустите же в дом, непонятливый вы человек. Вам же хуже… хуже (протискиваясь) будет, если меня ваши соседи увидят.
Хорошо, сказал Пётр себе, соглашаясь с Петушком, и, если разобраться, это «хорошо» было одним из самых бессмысленных слов, произнесённых им за всю жизнь, настолько бессмысленным, что, произнеси он его полвека назад, какой-нибудь досужий экзистенциалист тут же, оттолкнувшись от него бледными своими имагинативными лапками, высек бы из этой бессмыслицы целую пьесу, где в аду, выглядящем, понятное дело, как ухоженная буржуазная квартирка, или, того лучше, бухгалтерский офис, сидели бы под канделябрами или настольными лампами грешники, каждый из которых обречён во веки веков произносить только одно такое вот пустое, невесомое слово: «хорошо», «понятно», «согласен», «м-да».
А между тем Петушок церемонно обошёл квартиру округлой своей походкой, задирая лапки высоко, словно бы на полу было по щиколотку воды.
– Ну что же, жить можно, – резюмировал он, и эта фраза, сказанная вязким, сдавленным голосом, отчего днища у слов утяжелялись многократно, и слова глубже проседали по смыслу, имела то последствие, что Пётр вдруг поверил Петушку, хотя, казалось бы, верить или не верить этой необязательной фразе не было никакой необходимости – достаточно было просто понять её.
– Надеюсь, – ответил Пётр тихо, в общем-то больше для себя, чем для собеседника, но Петушок, словно услышав некое радостное известие, поднял вверх многослойное вороное крыло:
– Заговорили? Вот и славно. Я рад, что вы не напуганы. – И через короткую запинку, похожую на солидную двухвостую запятую, прибавил на тон ниже, почти просительно (или почти повелительно – кто их, зверьё, разберет): – Да вы садитесь. Что ж мы, так и будем стоя разговаривать?
И Пётр, конечно же, сел за стол, на своих шатких лапках незнамо как добежавший сюда из мастерской по изготовлению деревянных уродцев, и по-домашнему, буднично положил на него пистолет, который к тому времени уже просто измучил и истомил руку – ведь ничто не может быть томительней для руки с пистолетом, чем неизвестность. Кстати, Петушок подыграл этой мизансцене, посмотрев на пестик именно так, как на него смотрят калачи, натёртые до янтарного лоска школой Михаила Чехова, – значительно, фундаментально, как бы давая понять собеседнику, что он не только в курсе предназначения этого предмета, но и способен в случае необходимости на скорострельный манер выпалить все подробности его интимной жизни: «Пистолет ‘’Магнум А4GHRT56’’, модель Т, с центростремительной втулкой и возвратно-перпендикулярным механизмом самоотдачи, калибр 8,02 мм, густой автоматический отобразитель».
– Честно говоря, – осторожно проговорил Петушок, – он нам может скоро понадобиться. – И тут же забоялся чего-то, заперебивал сам себя: – Ну, то есть, не сегодня… скорее всего… но они же цыгане, они очень хорошо идут по следу.
– А как же волк? – осторожно, с таким ультрамариновым, ультраакварельным трепетом спросил Пётр, заранее, по благоприобретённой привычке прицеливаясь душой на плохое.
– Ну что волк? – пожал Петушок перистыми своими, маслянистыми плечиками. – Волк – существо нездешнее. Точнее, он то здесь, то там, гуляет из одного слоя в другой по собственному хотению. Да и, сказать по правде, – прибавил он интимным, более бархатистым голосом, – я не сторонник его методов. В конце концов, то, что произошло вчера, – это просто негуманно: у входа в гостиницу – приличное место, не какой-нибудь кафе-шантан, извините за выражение, – разрывать людей на клочки – это просто не комильфо. Я, конечно, понимаю: цыгане – наши временные антагонисты – но всё-таки… Это как-то неприлично.
– Понятно, – ответил Пётр, хотя понятного тут было максимум с гулькин нос, да и то в том случае, если гулька не слишком велика: например, болела в детстве, недоедала, много – и никчёмно – проводила времени на морозе, вот и выросла лилипуткой и доходягой. В общем, получается, что Пётр в последние несколько минут быстро-быстро выучился говорить пустыми словоформами, которые только чужое чуткое сердце могло наполнять словосодержанием. А было ли у Петушка такое сердце, зоркое и трепетное? Будем надеяться, что да, было, и основание для такой надежды есть: ведь Петушок очень гладко, что называется – как по писаному, ответил на последовавший за тем, внезапный вопрос Петра, который (как и положено всему внезапному) появился вдруг, без предупреждения, словно икота или инфаркт. Четверть десятого, ответил Петушок на этот вопрос. И прибавил мягко, чтобы не уколоть ненароком мозг Петра, до отказа наполненный гелием: утра. То есть, подытоживаем мы, эта петушковая гладкость, вполне возможно, была обдумана и обдуманна, раз она так удачно амортизировала рывки и порывы Петра. Так что, сдается нам, Пётр без особого вреда для своего психического здоровья мог бы сколько угодно ещё егозить вакуумными, как шведские пылесосы, недословами, многозначительно мычать или покашливать, срываясь тут же на жизненно важные вопросы («а что с нами дальше будет?»; «да что такое, чёрт возьми, происходит?!»; «когда же это всё прекратится?»), смотреть затравленно, по-дворняжьи, или всемогущественно и официозно, что твой Кинг-Конг – всё равно Петушок, заранее распознавая то хрупкое направление, в котором росло понимание Петром своего и не своего места в этой запутанной истории, по писаному отвечал бы на это околочеловеческое рычание и хлюпание, всё равно он гладенько сглаживал бы трудное человеческое борение, которое, будучи трудным, всегда норовит вылезти углами, сучками и задоринками.
– Спасибо за высокую оценку моих скромных стараний, – проговорил Петушок приподнято, словно готовясь начать тронную речь. И когда предчувствие неведомой инаугурации мгновенно охватило Петра каким-то бреющим, нежным испугом, Петушок прибавил по-простецки: – Это я не вам. Извините. Значит, рекомендации следующие. Сегодня лучше никуда не выходить. Через два часа здесь будет проходить процессия, и при таком скоплении народа очень легко кому-то попасться на глаза. Ну, кому-то нежелательному, я имею в виду, кому-то, кому вы ни при каких обстоятельствах не хотели бы на глаза попадаться.
– Процессия? – с тоской проговорил Пётр, и тоска была такая, знаете, трёхвершковая, как у любого, в принципе, кто выхватывает, наподобие спасительной соломинки, знакомо звучащее слово из разговора на незнакомом языке и пытается нерешительно, испуганно, словно плешивый холоп в барскую горницу, втиснуться с ним в чужую беседу. Вот и Пётр – удивленно и нерешительно протянул это слово на ладони, и у Петушка, как нам кажется, прямо душа ёкнула от жалости.
– Вы ничего не слышали? Дело в том, что под Челябинском убили Деда Мороза. Точнее, официальная версия настаивает на гибели вследствие падения метеорита[33 - Пример авторского предвидения – текст написан за десять лет до падения «челябинского метеорита».], но по некоторым сведениям имело место ритуальное убийство: некто проткнул ему сердце сосулькой. Быстро, надо сказать, проткнул, умело, я бы даже сказал, профессионально, так что дедушка и охнуть не успел. Ну вот, а похоронить он себя завещал, как известно, под Курганом, так что процессия будет довольно внушительная – с фанфарами, с плакальщиками, всё как положено.
Петушок вдумчиво посмотрел на Петра своими углубленными глазками, как бы фиксируя его место в мире, как бы не давая ему до поры до времени из этого мира сбежать. И Пётр понял взгляд Петушка так, как надо: он доверился ему и широко распростерся под ним во все стороны, чувствуя подмышками, крыльями, ребрами, что он под этим взглядом – сохраняется. Ну и пусть Дед Мороз, ну и ладно похороны, думала его голова сильно вдалеке и отдельно от его сердца, которое, вопреки всему, продолжало биться гладко, не спотыкаясь, действительно, посижу дома, понятное дело, не шляться же по улицам в такую суматоху. Петушок же тем самым временем вкрадчиво прокашлялся, поскольку знал, конечно, что вкрадчивость наиболее безболезненно освобождает от задумчивости, неуверенности, страха и прочих угрюмых приземлённостей.
– Так вот, а вечером мы отведём вас в одно место, которое вполне себе безопасно, а сами попробуем всё-таки устроить здесь что-то наподобие… ну, засады, что ли… Так что ждите нас вечером и, умоляю, ничего не бойтесь. Ничего. Кстати, сирень вы несколько неверно расположили. Её надо перед окнами и дверьми выложить, а не над ними. Вы уж, будьте добры, переложите это. Ради вашего же блага.
– А волк сказал… – начал было Пётр, но Петушок посмотрел на него так благостно и жалостливо, с таким сладким сочувствием, что Пётр сглотнул перемешанные с воздухом слова и начал как бы ненароком, но заинтересованно смотреть то в этот угол дома, то в тот, пока Петушок проговаривал ему с разжёвывающей интонацией, как больному сталенькому дедуске:
– Путает по жизни зубастая головка, очень много путает.
– Всё будет хорошо, – прибавил он шёпотом, который при таких обстоятельствах просто не мог не быть жарким, и нежно похлопал по руке Петра пружинистым крылом.
И то место на руке у Петра, к которому прикоснулось пружинистое крыло, ещё долго было шёлковым, шелковисто-уютным, по-особенному ворсистым. У задумавшегося Петра, который с видом и манерами покойника бездумно смотрел в окно, вторая рука время от времени сама тянулась к этому островку мерцающего света, и Пётр почти ощущал кончиками пальцев его летучее, совсем ультрафиолетовое тепло, в чём, несомненно, была определённая положительная динамика по сравнению с предыдущими неделями и днями, когда он, заставив себя не думать, начал учиться вдобавок и не чувствовать, чтобы хоть таким образом сохранить частичку себя, пусть даже спрятав её в безмыслии, бесчувствии или попросту в небытии.
Вот написалось, выскочило это кичливое, увитое трёхгрошовой загадочностью словечко «небытие», и как-то неловко стало на один крошечный-окрошечный миг за себя и своё вёрткое перо, слишком легко перепрыгивающее порой через ту призму сосредоточенной насторожённости, сквозь которую я пытаюсь рассматривать мир, но, устыдившись, я тут же раскаялся в этом никчёмном стыде: ну небытие и небытие, мало ли засаленных и затраханных слов водится в нашем великом и могучем. Так что отбросим брезгливость: слово, потерявшее блеск, редко теряет точность, так что для нас так будет даже и сподручнее – в нашем «небытии» выветрился инфернальный душок, оно стало домашним и почти ручным, и это как раз то, что мы хотели сказать, поскольку для Петра с некоторых пор небытие стало повседневностью, приобрело комнатную температуру и только что не начало ласкаться об ноги. Вот и сейчас он его ясно видел, глядя и одновременно не глядя через окно на улицу, по которой ветер бессмысленно взад и вперед катал смятую, рыхлую газету, а она всё стремилась развернуться, чтобы загребать побольше воздуха и двигаться медленнее всех на свете. Впрочем, ей это вполне удавалось: со стороны казалось, что газета живая и в замедленном времени движется в вакууме. И дорога, по которой она плыла, тоже была замедленная, однообразная, болезненно-неаккуратная – хотя на первый взгляд неаккуратное не рифмуется с однообразным. Ничего страшного, если подберётся исследователь с нужным глазомером, курганские дороги помогут опровергнуть ему ещё множество аксиом.
Словом, окружающий Петра Курган был таким пресным, таким недостаточным и необильным, что походил на ксерокс какого-то другого, более глубокого, более богатого мира, который, может, и был тут, да вот сильно ушёл на задний план, и его теперь как бы и нет. Так что Петра откровенно обрадовали звуки похоронной музыки, которые приглушённо, как из могилы, тяжёлыми волнами поплыли с подветренной стороны: обрадовали, потому что могила будет повеселее небытия.
Между тем музыка, надвигаясь, набирала обороты, и то, что издали казалось почти величественным (поскольку траурное всегда сродни величественному), по приближении разваливалось, превращалось в стаю путешествующих кастрюль и тазов, и только труба звучала отдельно и смело, приволакиваясь за оркестром в каком-то своём вольном ритме, как больная нога. А посреди кастрюльного звона невидимая, но неистовая сила отчаянно ~чила по барабану. И, надо сказать, сила эта была заразительна, потому что Пётр, отвлёкшийся от своего небытия, встал и переложил ветки сирени так, как посоветовал ему Петушок, а потом ещё долго, с ненужной тщательностью, проистекающей от вынужденного безделья, выправлял их взаимно перпендикулярное расположение под кастрюльным громыхающим ураганом.
Бессмысленные занятия имеют форму воронки, и Пётр понял, что оказался у самого основания её сладко вращающегося конуса, только когда музыка, ещё только сейчас стоявшая вокруг медной и жестяной стеной, стала отъезжать вбок, за горизонт слышимости. Тогда-то он и припал вновь к окну, но припал осторожно, боком, из-за стены, поскольку под окнами, загребая ногами безнадёжную осеннюю труху, маршировала скорбная пехота. Маршировала так, будто мастурбировала, – с угрюмой решительностью; прямолинейно; вязко и хаотично переваливаясь. И вот ведь трудно хоть кого-то углядеть в этом однородном марше, разве только каких огольцов, которые под шумок медных труб затеяли было исподтишка обмениваться поджопниками, но весьма быстро поддались простецкому укороту и дальше уже шли, размазывая по бессмысленным лицам ничего не значащие слёзы; или вот, скажем, привлекал некоторое праздное внимание, охочее до всяких мерзостей, распаренный редковолосый пузырь в тяжёлом, как латы, и, по-видимому, дорогом костюме, рядом с которым по обе стороны, по-грачиному балансируя на кривых жилистых ножках, ковыляли два его жирохранителя, сами похожие на грубо струганные ходячие гробы; или вот бабушка, или, точнее, пожилая цыганская женщина занятой и энергичной наружности, которая вроде бы и шла обычной массовой походкой, на вялых расслабленных ногах, однако аккурат перед окном, в которое краешком высовывал свой нос Пётр, вдруг остановилась и глянула напрямик просветлённым кареглазым взглядом, так что Пётр, тут же отпрянувший и моментально всей спиной, каждым её ребрышком вжавшийся в стену, конечно же, узнал её, а вот узнала ли она его, впервые повстречав после памятного события у петергофского лабиринта, – это вопрос открытый, который будет закрыт чуть ниже, если, конечно, терпение у нашего читателя не закончится и он с криками проклятий не отшвырнёт эту книгу. Да она не на меня смотрела, подумал Пётр заполошно, ей сюда незачем смотреть, да и если бы посмотрела, всё равно ничего не успела бы заметить, я же моментально (мысли Петра смущённо замолчали, но потом всё же выдавили из себя трудное слово:) спрятался.
Короче, думы Петра пошли как-то порывами и внахлёст, причем нахлёстывали они друг на друга некрасиво, разрывая друг друга в бесполезные клочки.
Но беда заключалась вовсе не в этом – она заключалась в том, что, когда вихрь этого ментального рванья утих и рваньё медленно осело в никуда, вместо него показалась одна такая плохая ерунда, от которой до сей поры Петру удавалось отбояриваться, и теперь эта ерунда, словно аккуратистка, пришла требовать своё, да ещё с какими-то ё-моё процентами. Ерунду эту люди нашего круга называют животным страхом, и она враз приспела за Петром большим количеством. Этот страх мигом открыл Петру внутренние глаза, которые он до сей поры держал крепко закрытыми, чтобы они не дай Бог не увидели, а, увидев, не рассказали ему самому со всей честностью о том, что же с ним на самом деле происходит. И вот эти-то внутренние глаза с такой невыносимой честностью, похожей больше на удар ножа, чем на вспышку очистительной яблочно-лимонной молнии, разом увидели-таки всё происходившее с Петром на протяжении последних месяцев в его ужасающей целостности и неподкупной кривизне. А поскольку видеть это было невыносимо, поскольку, то есть, от такого зрелища даже самые лужёные мозги начинают воображать себя чем-то вроде хворого и квёлого творога (кстати, а как правильно – тво?рога или творога?? – Х.З.), то Пётр без всякого внутреннего стыда впустил в себя беспросветную горечь, которой просто-таки сочилось это зрелище, и та вместе с горлом разом перехватила дыхание, и влилась в это широко навстречу ей разверстое горло, и заполнила Петра целиком, без остатка, как то? делает любая сильная боль, так что Пётр, тут же обессилевший от этой горечи, от этой боли, от этого животного страха, разразился громкими, бесстыдными, безутешными, детскими, долгими рыданиями, так печально похожими на крики о помощи.
Ну и поплачь, милый, поплачь от души. Мне ли не знать, как ты настрадался, хотя, по правде говоря, я и не сторонник всех этих высокохудожественных заплачек на страницах великой нашей национальной литературы. Но если особенно не слышно этих страшных, чересчур физиологичных, почти инфразвуковых всхлипов и стонов, то ничего, в виде исключения можно и всплакнуть. Сирень пахнет, оркестр играет, Пётр плачет. Долго плачет. А потом ещё долго. И ещё. Ну и ничего. Нормально.
Ну а когда оркестр ушёл, а слёзы закончились, когда они высохли, оставив после себя слегка саднящую, стянутую кожу, то, конечно же, на место слёз снова пришел страх, а страх – это такой хлопец, который на самом деле никакой не хлопец, а самый настоящий яд, и если раньше, до того, как внутренние глаза показали ему всю целокупность совершеннейшего кошмара (читай – ужаса), у Петра были свои противоядия против страха, то теперь они перестали быть противоядиями.
Поэтому он взял первое и единственное, что могло бы сойти сейчас за алчно чаемый антидот – свой «Магнум», – и долго сидел на кровати, правой рукой стискивая бесчеловечно жёсткую рукоятку пистолета, а левой – прижимая к груди правую руку, так что со стороны всё выглядело так, будто наш уважаемый герой боится, что у него кто-то отберёт оружие. Впрочем, такая поза имеет серьёзное преимущество: она даёт уверенность, что тебя никто внезапно не ударит в грудь, а именно этой уверенности Петру сейчас хотелось больше всего на свете, потому что, если бы кто-то его сейчас внезапно ударил в грудь (неважно, чем – кулаком или же обычной бельевой верёвкой, используемой вместо плети), то, казалось ему, он просто развалится на части, весь из себя такой просто разъединится.
Ну, ударить-то его не ударили, а вот мобильный телефон у него зазвонил. Причём зазвонил издевательски спокойно, вальяжным, буржуазным рингтоном с сочным фортепианным звуком[34 - «Nokia tune» был самым популярным рингтоном во времена написания «О».]. А ведь было бы куда естественней, если бы он сейчас завопил, как резаный, диким человеческим голосом цитаты из Апокалипсиса или, по крайней мере, из Тибетской книги мёртвых, если бы, в конце концов, он выпрыгнул из кармана куртки и стал метаться по комнате, сшибая предметы, плача, причитая, ведя себя несносно, так, что его впору отхлестать по щекам.
Не чувствуя ног, Пётр подошел к куртке и взял из кармана телефон, на дисплее которого адским пламенем полыхал питерский номер. Не отвечай, не отвечай, голосило сердце, вконец запыхавшееся под тяжёлыми пинками полноприводного ужаса. Но он ответил, и не потому, что в нём сохранились остатки твёрдости, – они-то как раз были, будто воск, растоплены первобытными вибрациями дрожи – а из малодушной надежды, что в ответ раздастся что-то успокоительное или, по крайней мере, объясняющее. Но в ответ усмехнулись сдавленным смешком и сказали Олесиным голосом:
– Ну что, уже ждёшь нас? Правильно.
И всё. Хотя бы небольшая, но конкретная угроза. Хотя бы небольшое проклятие, компактное, ёмкое, но ясное. Но вместо всего этого – короткие гудки, как горошины, вприпрыжку спешащие в бесконечность.
Так что Петру ничего не оставалось, кроме как бессильно лечь на спину и сказать Господу: «Господи», и повторить отчётливо, так чтобы Он услышал: «Гос-по-ди». Впрочем, Пётр и не надеялся быть услышанным: этим пустым обращением он просто прицепил себя к некоей несокрушимой точке, то есть сориентировал себя в этой ситуации и в этом мире, ровным счётом не претендуя ни на что другое, поскольку раз за разом и неделя за неделей у него вызрело на взгляд профана несколько святотатственное, но в целом, кажется, верное убеждение, что Господь, буде Он вообще существует, принял принципиальное решение никоим образом не участвовать в его деле. Но что-то же должно помочь Петру? И холодная голова, и спасительная отстранённость от города и мира сгинули, так что ныне надежда, как в старых добрых вестернах (от которых Петра довольно-таки тошнило), была только на безотказно работающий пистолет, на пистолет без страха и упрёка, на грузный, неповоротливый на первый взгляд пистолет со множеством пуль в животике, на пистолетпистолетыча, словом, который пока ещё был так верен Петру, как мало кто был ему верен в этой злой-презлой плероме[35 - Плерома классического гностицизма – божественная полнота, совокупность духовных сущностей. По Юнгу – «‘’место’’ за пределами пространственно-временны?х представлений, в котором угасают или разрешаются все напряжения между противоположностями».].
А в сущности, подумал он вдруг, на самом-то деле не хочется никакой ясности, когда ты в сером пустынном пространстве наедине с пистолетом и когда любая ясность с какой-то издевательской неизбежностью означает только то, что пространство вокруг тебя серо и пустынно, что ты в нём один-одинёшенек и что единственный, на кого ты можешь рассчитывать, – это ср~ пистолет, тупорылое железное ~бище, которому в нормальном, человеческом мире вообще не должно быть места. И Пётр, будучи нормальным, в общем-то, живым человеком, убежал от этой ненужной ясности в дрёму. В законную послеполуденную дрёму. Разве что была она не пушистой, шерстяной и уютной, а жёсткой, угластой, слишком прозрачной, чтобы до конца быть похожей на дрёму. Теплоты в ней нет как не было. Скорее, было прохладно.
Но это даже к лучшему, потому что переход от прохлады к холоду не так головокружителен, как переход к холоду от тепла. А ведь именно холод обрушился на Петра, выхватив его из дрёмы так мгновенно, как если бы тот был баснословно лёгким – скажем, ожерельем из перьев колибри, – когда запертая на все ключи дверь гладко открылась и в комнату мягко, размеренными шагами вошли четыре как бы женщины и одна как бы птица: цыганка, Олеся, Люба, Тонкая Женщина и Петушок.
– Ко-ко-ко, – проговорила Олеся каким-то чужим, низким голосом, усмехаясь в нос, – заждался, болезный?
– Заждался, – ответил ей Пётр шёпотом, а может быть, и не ответил, может быть, ему просто показалось, что он ответил, а на самом деле промолчал, судорожно хмурясь, хмурясь не перехмуриваясь, так истово, что это были уже практически не хмурые брови, а целая молитва, произнесённая немым, но страстным языком бровей. И что же вышло из этой молитвы, спро?сите вы? К чему она могла привести, если, как уже было сказано выше, никакого Бога для Петра более не существовало? Ну, Бога, может, и не существовало, но ведь пистолет-то существовал, так? И он был если не наместником Бога в наличествующей системе мироустройства, то, во всяком случае, Его полноценным alter ego, а потому Пётр, спутав, возможно, понятия, или не спутав, а, действительно, чётко осознав место пистолета в этом мире и уверовав в антисвятую, антиблаженную силу его ствола, от которого исходило подпольное, глубоко законспирированное сияние, направил его безблагодатное дуло прямо Олесе в грудь и со страхом, чуть-чуть напоминающим надежду, пальнул в эту хамски распростёртую, уверенную в своей безнаказанности грудь тремя медовыми, ледяными пулями.
А теперь попробуем беспристрастно, без никчёмного кликушества, безо всех этих округлённых глаз и причитаний рассказать, что же там произошло дальше. Дело в том, что это при доброкачественном (пусть даже и жестоком) положении вещей пуля со страшной скоростью, быстрее даже скорости света, вылетает из дула смертельного оружия и насмерть, или почти насмерть, повергает врага. Ну или герой неточен, рука его дрожит, глаз ошибся, пуля пролетает мимо, злодей дьявольски хохочет, густой, чернильный ветер зловеще воет в пустом переулке, метафизический (потому что переменчивый) свет луны, то и дело скрываемой набегающими облаками, как бы намекает на то, что вся эта драматическая сценка происходит на том свете, одинокая собака, острее Нострадамуса чующая плохое, где-то гулко лает на весь мир и пр. Всё это вполне естественно и вызывает вопросы разве что стилистические. Но здесь ситуация, по-видимому, решила, что она тут на особом положении, что? иногда случается с ситуациями экстраординарными, и оттого пули из ствола, конечно, вылетели, но полетели они в сторону вражеской груди так медленно, как если бы шаловливое дитя из игрушечного пистолетика выстрелило пулькой в густом сиропе.
Только не сочтите это фигурой речи: они, фигуры, хоть и властвуют над этим повествованием по праву сильного, умного и интересного, но здесь вынуждены несколько отступить на манер морского прибоя, который, отступая, обнажает из-под своей слюдяной трепещущей лазури зыбкий, переливающийся песок или старательно облизанные камешки гальки, или гранитную крошку, так похожую на кашу, что её хочется зачерпнуть ложкой и поскорее поднести ко рту – словом, обнажает землю, землю, без которой никакого бы прибоя и не было. Ведь не может же прибой существовать в пустоте, точнее, в том, что мы, несколько неточные в словоупотреблении, привыкли именовать пустотой: в воздухе либо космическом, чёрном как смоль пространстве. Вот так и здесь. Посмотрев на землю, то есть на то, в чём повествование берет свою вязкую силу, мы можем сказать самыми что ни на есть прямыми словами: пули летели настолько медленно, что гости Петра прямо прыснули со смеху.
– Хорошо летят, – усмехнулась в нос Тонкая Женщина, которая, как всегда, смотрела на происходящее с лёгкой брезгливостью, с высоты вечно приподнятого подбородка.
– По правилам летят, не злодействуют, – подхватил Петушок и методично, тремя одинаковыми кивками головы склевал плывущие в воздухе пули.
– Маленький, маленький дурачок, – проговорила цыганка бархатным, певучим голоском, как бы убаюкивая предназначенного на убиение цыплёночка, и одним цепким, но мягким движением вынула пистолет из мгновенно ослабевших, или, точнее, расплавившихся рук Петра.