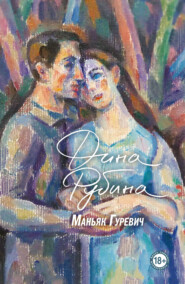По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Жорка, не помня как, очутился наверху, возле Тамары, привалился к ней и не протестовал, когда, приобняв, она легонько сжала его плечо, что-то бормоча успокаивающим голосом…
* * *
…По берегам дома? подбирались к воде близко-близко, проплывали иногда беседки такой ажурной, невесомой красоты – где хозяева побогаче, – что дух захватывало! Хотя чаще над водой выступали простые деревянные мостки, с которых женщины полоскали бельё.
Самый смешной такой причалушко они с Тамарой увидели за Верхнелебяжьим. От приземистого домика под зелёной жестяной крышей к воде спускались деревянные ступени, где на живульку был сколочен не помост даже, а какой-то птичий насест. И всё же на нём уместилась целая семья: вокруг столика тесно сгрудились на лавке мужчина в сетчатой майке, бабка и мальчик лет пяти. Все трое были мелкие, как воробушки, а на столе стоял огромный, оркестровой медью пылавший на солнце самовар! Семейка чаёвничала, сидя на этой жёрдочке, а под помостом плескалась зелёная река, и казалось, вот-вот хлипкие доски треснут, разойдутся и все трое вместе с самоваром съедут в воду, как с горки на саночках.
Удивлённый Жорка впервые повернулся к Тамаре – заметила ли она это безумие, это безмозглое бесстрашие? Убедился, что она тоже озадачена, фыркает и качает головой. Взгляды их встретились, и оба рассмеялись! Впервые вместе рассмеялись над одним и тем же! И мир вокруг Жорки – река, и чокнутая семейка на птичьем насесте, и двугорбые астраханские верблюды в Никольском, преисполненные достоинства, как восточные владыки, и гора румяных горшков на жёлтом песке, и сама Тамара со своим диким голосом сойки… – всё слилось в возрождённый, после затмения, яркий солнечный мир – звучащий, пахучий-текучий, пряный, сладчайший, дерзкий, вольный и смешной!
…Ближе к Астрахани берега изменились, повеяло степным сухим воздухом.
Волга разлетелась, как разбитое зеркало, на реки, речушки и ручьи. Это была Дельта. Берега, казалось, выжгло солнцем до белёсой прозрачности. На полях ни былиночки. Вольное стадо жёлто-песчаных, под цвет берега, сайгаков, с мягкими горбоносыми мордами, с плавно изогнутыми рогами, возникло из жёлтого марева и минут пятнадцать бежало по правому высокому берегу: отчётливо прекрасные, будто вырезанные на блёклом предзакатном небе тонкими ножничками. Жорка зачарованно следил за ними, чуть шею не свернул, пока сайгаки снова не растворились в жёлтом мареве…
Заходящее солнце дробилось на глади многочисленных протоков, которые тоже были – Волга. А казалось, перед тобой – море, разрезанное на множество островов, и на каждом лоскуте водной глади, даже на мокрых отмелях, горело разбитое солнце, громадное, величественное, слепящее в багряном закате…
Эту дорогу он помнил всю жизнь, и всегда был благодарен за неё Тамаре. И когда много лет спустя сказал ей об этом, наклонившись к подушке так, чтобы она услышала его слова своим ущербным, а перед смертью и вовсе почти угасшим слухом, – улыбка тронула её восковые губы в отрепьях сухой кожицы, и она прошелестела:
– …Чаепитие на жёрдочке… помнишь?
– Конечно, помню, – сказал он и погладил её щёку.
4
Огромный, засаженный деревьями двор, куда привезла его Тамара, да и сам дом, выстроенный буквой П, поделённой посерёдке высоченной аркой, Жорку поразили, хотя виду он не подал. Но сразу за аркой открылись чудеса: лесенки, веранды, снова лесенки… Жорка задрал голову и встал, замерев: над этой странной конструкцией, над длинными галереями, заставленными кадками с фикусами, сквозь листья, трубы, лесенки мчались облака, и с места было не сдвинуться от этой бегучей красоты. Похоже на сцену кукольного спектакля, который однажды привезли в их село артисты из райцентра.
– Нравится? – спросила Тамара. – Красиво, да? А когда снег идёт, ты будто на дне колодца, и сверху на тебя сыплет и сыплет благодать звёздчатая… – и тем же мечтательным тоном добавила: – На верхотуре профессура живёт, все чокнутые. Там кооператив. А у нас всё проще, мы – рабочий класс, люмпены.
Они поднялись на крыльцо, вошли в нутро тёмного подъезда, и Тамара отперла простую, крашенную коричневой масляной краской дверь. Пропустив мальчика вперёд, вошла следом и щёлкнула выключателем. Жёлтым светом озарилась тесная прихожая с рогатой вешалкой, лоскутным ковриком на полу и сколоченным вручную дощатым ящиком для обуви, который служил заодно и скамьёй: на нём лежала такая же лоскутно-цветастая, плоская подушка.
Тамара скинула обувь и побежала освещать всю квартиру – щёлк, щёлк, щёлк! – будто спешила показать мальчику разницу между убогой его оставленной жизнью и новым уютным, пусть и не слишком просторным и не слишком роскошным жильём.
В открытом проёме двери справа виднелась чистенькая кухня, впереди за прихожей открывалась во всём великолепии оборок, занавесок, салфеток и каких-то плетёных-кручёных, развешанных по стенам цветных кос квадратная зала, в дальней стене которой была дверь в ещё одну комнату, видимо спальню.
Жорка тоже разулся на пороге, уж больно всё было намыто-натёрто… прям до блеска! Блестели ручки дверей, краны в кухне, блестели натёртые мастикой светлые доски пола. В зале под окном купчихой развалился диван с пухлыми валиками и подушками, обтянутыми жёлтыми чехлами. Рядом, упираясь длинной ногою в пол, стояла высокая, как журавль, лампа с бежевым оборчатым абажуром; именовалась она тоже как-то иностранно: торшер. А противоположный угол отгораживала такая складчатая стенка, как ширма в кабинете у школьной медсестры, но совершенно иная – не белая, а расписная, вся розово-салатовая, с целой толпой нарисованных на ней японцев или китайцев… словом, с компанией каких-то кыргызов, на которых Жорка и сам был похож.
И торшер, и ширма достались Тамаре после грандиозного ремонта у Макароныча. Татьяна Марковна подарила, дочка его. Тамара помогала ей прибираться после «этого вселенского бардака». Она подметала и намывала полы и всё глаз не могла оторвать от этой китайской красоты, и всё восхищалась: обходила ширму кругом, рассматривала, как картину: столько людей, и каждый занят своим делом – кто вязанку хвороста несёт, кто поливает деревце, кто над ткацким станком сидит, – и у каждого, несмотря на общую узкоглазость, своё выражение лица. В одном только месте в уголке была оторвана материя, пришить – две минуты. Она и пришила. И Татьяна Марковна сказала: «Вот и отлично, вот и забирайте её, Тамара». «Да вы что?! – закричала Тамара, как всегда, не соизмеряя громкость голоса с эмоцией. – Вы рехнулись, Татьяна Марковна?!» «Ну, значит, рехнулась, – сказала та весело. – Забирайте, забирайте. И торшер прихватите. Он мне тоже надоел».
Вот богатые, подумала тогда благодарная Тамара, вот они могут позволить себе такое, когда вещи – прекрасные вечные Вещи на Тыщу лет, да такая красота, на которую смотри-не насмотришься! – вдруг надоедают…
И долго развёрнутая ширма красовалась у стены, служа просто красоте дома, как гобелен или большая картина. А теперь вот пригодилась по назначению. Стояла растянутой гармонью, огораживая Жоркин угол: за ней была образцово, по-солдатски заправленная раскладушка и деревянный стул с прямой спинкой и твёрдым сиденьем. «Если аккуратно складывать штаны брючина к брючине и вешать на спинку стула, – сказала Тамара, – они всегда будут как глаженые. А уроки можно делать за обеденным столом, чтобы не сутулиться».
Жорка промолчал. Какие ещё уроки, что за ерунда? Он уроки никогда не делал. Математику решал сразу целыми разделами, прямо в учебнике, ещё в августе, с первой и до последней страницы. В русском тащился как придётся: корова или карова – какая, к чёрту, разница! Все тетради были расписаны цифрами – оленями, лебедями, ужами и чайками, и все эти примеры походили у него не на задачки, а на чертежи мизансцен какого-нибудь балетного сценографа.
Дядь Володя встретил племянника более чем спокойно. По-мужски. Руку пожал:
– Ну, милости просим, – буркнул, – как это… типа, добро пожаловать, чувствуй себя э-э-э… как дома. – Будто Жорка заглянул сюда дня на два, на три. Или на каникулы приехал.
Тамара сквозь сжатые зубы с натугой проговорила:
– Он и так дома, где ж ещё!
– А я что сказал? – негромко, со скрытой угрозой отозвался муж.
* * *
Наутро, в воскресенье, Жорке было позволено выйти погулять. «Но не шляться!» – предупредила Тамара, и Жорка призадумался – что бы это значило, если прикинуть, скажем, в расстояниях? После чего пошёл шляться куда глаза глядели. А глядели они сразу во все стороны.
Дорогу от пристани, где, в конце концов, они закончили своё прекрасное путешествие, и до самого дома он помнил наизусть. (Любой маршрут прокатывался в его голове так же, как цифры – навечно, и в дальнейшем, даже с изобретением всевозможных подпорок пространственному бытию человека, Дизайнер Жора никогда, ни в одной стране, не пользовался навигатором.)
Выглядел мальчик на загляденье: его единственные тёмно-серые штаны Тамара вчера удлинила за счёт обшлагов, отчистила и отпарила утюгом. К рукавам курточки пришила манжеты, а главное, из обрезков своей старой коричневой сумки нашила на локти круглые такие заплаты, какие Жорка видел в фильме на одном очкастом американце – сначала, вроде, симпатичном, но потом оказавшемся шпионом. Под конец фильма тот жалостно рот разевал, умоляя, чтобы в него не стреляли, и было противно: раз ты такой изворотливый шпион, имей мужество умереть за свою страну!
Ранним воскресным утром двор ещё пустовал, даже хозяйки в воскресенье позволяли себе подремать подольше. Это была необъятная страна, с кирпичными гаражами (а над одним из гаражей в текучем голубом небе плыла настоящая синяя голубятня), с фруктовыми деревьями, с асфальтированной площадкой в центре, на которой развешивали бельё и выбивали ковры. На дальней окраине двора притулился полусожжённый, но ещё крепкий на вид и даже вроде бы частично жилой флигель. Надо бы разведать этот флигель…
Но для начала Жорка подробно осмотрел «кооператив», побродив по тем самым лесенкам и длинным галереям, куда выходили двери явно богатых квартир. Сами двери тоже были богатые, пухлые, обитые дерматином разных цветов – чёрным, коричневым, даже вишнёвым… очень солидные двери! За одной из них драматический женский голос выпевал: «Ос-во-боди меня от себя!..» «Профессура», – шёпотом повторил Жорка брошенное Тамарой словечко. Хм… интересно, кто это. Спрятаться бы здесь… хотя бы и за кадкой с фикусом, и понаблюдать за обитателями этого «кооператива».
Тайники его захватили позже, но уже тогда, в первые месяцы обживания дома и двора, набережной Кутума и окрестностей, у Жорки то и дело возникало острое желание спрятаться, исчезнуть, и внезапно обнаружить себя по собственному хотению там, где он сам назначит.
Потом он спустился, обследовал недосожжённый дом на задворках этого в целом благополучного двора: судя по занавескам на двух уцелевших окнах и по двум другим окнам, с синими крепкими ставнями, кто-то там зацепился-таки и живёт! Затем, через параллельную улицу Чехова, где наткнулся на заросли изумительно вкусного крыжовника, Жорка выбрался к церкви с круглой маковкой. Это уже не церковь была, а какой-то склад, окружённый забором из железных прутьев. Сквозь прутья Жорка протиснулся во двор и там тоже всё-всё по-хозяйски оглядел. При желании можно и на склад пролезть, подумал… но решил оставить это интересное дело на потом. Он многое решил оставить на потом, например высоченную сливу во дворе, куда можно и нужно залезть и поискать прозёванные местными пацанами сливы. (Первой встречи с местными он, признаться, побаивался.)
Он прогулялся по Красной набережной не очень далеко, зато в обе стороны, дошёл до пешеходного моста, с которого невозмутимо рыбачили трое мужиков и залихватского вида седая и загорелая тётка. Эти фанатики упрямо надеялись на улов, хотя тут же рядом прыгали в воду с перил пацаны, команда байдарочников прожигала середину реки своей узкой торпедой, а поблизости от моста околачивались бабки с белыми лотками, на разные голоса пронзительно покрикивая:
– Беляши-беляшики! Пирожки с картошкой, с головизной осетра! Горяченькие-пышные! Вкусные-аппетитные! Сковородочка шкворчит, ещё не остыла-а!!!
У стекляной пивнухи толпились алкаши-алкашики, разбирая жирную воблу по лоскутам: сначала отрывали брюхо, изымали и разжёвывали пузырь, потом кусками извлекали бордовую липкую икру, и затем уж под ледяное пиво смаковали янтарную спинку и хвостик…
Наконец Жорка почувствовал, что утренний чай со вчерашним пароходным пирожком, сохранённым Тамарой на завтрак, уже заскучали в брюхе и легонько, но настойчиво скулят, прося добавки. Довольный, окрылённый новым огромным миром, в который он так внезапно и удачно угодил, Жорка, ни на мгновенье не задумываясь о дороге, ничуть не заплутав, вернулся во двор.
Напоследок завернул к песочнице – повисеть на перекладине деревянного грибка. С некоторых пор, примерно с семи утра, он решил накачивать мускулы на всякий пожарный. Подпрыгнул, ухватился за косую перекладину и повис, пытаясь для начала подтянуть себя разочек-другой…
– Пять! – отчеканил кто-то за его спиной.
Жорка отпустил перекладину, спрыгнул на корточки и обернулся. И застыл: шагах в десяти от него стоял пацан, из тех, на кого глянешь и язык проглотишь.
У пацана на голове был куст. Ну, волосы, конечно, но курчаво-густые, как подстриженный куст жёсткой садовой изгороди. Посреди куста торчком стоял многоцветный карандаш, толстый, как бочонок, с круговыми пластмассовыми крючками; причём пацан делал вид, что так и надо и он понятия не имеет – что за хреновина там у него торчит и как туда попала.
– Провисел несчастных пять секунд, – доложил тот, – на идиотском грибке, не подтягиваясь. Хотя для этого есть настоящий турник во-он там, возле Говнярки.
Жорка с молчаливым изумлением смотрел, как пацан приближается. Бешеный, подумал опасливо. Люди, умеющие разговаривать длинными правильными фразами, ему вообще казались не совсем нормальными. Драться он по-прежнему не любил, хотя и понимал, что бывают безвыходные ситуации и на новом месте они непременно возникнут. Но не сейчас же, не в первый же день, не с городским же сумасшедшим: вон у него мозги повылезли, дыбом стоят. Оглянулся на всякий случай: в детской песочнице полно песка. Это хорошо.
– Здоро?во! – воскликнул клоун. Значит, точно будет цепляться, не успокоится, пока не наскочит. Тут главное не тушеваться, а сразу отбрить. Со сдержанным презрением Жорка сказал:
– Здоро?во. Ты бык, а я корова.
– Кто корова – ты? – удивился кустистый. – Может, ты просто – дурак?
Так, первый пошёл, подумал Жорка. Значит, деваться некуда. Он скинул курточку движением плеч, как в деревне парни перед дракой.
– Проверим? – предложил, набычившись. Тогда этот, с карандашом в башке, крикнул: «Ага, та-а-ак?! Сам напросился?! Щас получишь!» и, подобрав что-то с земли, ринулся на Жорку без всякого предупреждения, без разминки-разговору, а все ведь знают, что перед дракой разогрев требуется, любой дурак это знает! – налетел и шарахнул Жорку по скуле и губе чем-то твёрдым, сразу солёным, горячим, что потекло по подбородку. Жорка попятился, споткнулся о бортик песочницы и кувыркнулся назад.