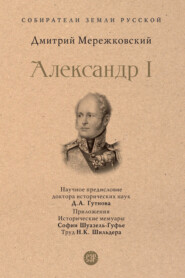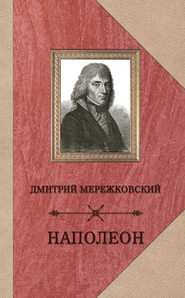По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Данте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Остерегала, – он меня не слушал...
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя – (Ад)[24].
Кажется, в эти дни Данте меньше всего был похож на то жалкое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, каким казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче; он сделался, – или мечтал сделаться, – одним из самых изящных и любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое время», по Екклезиастовой мудрости: «время плакать, и время смеяться»; время быть пугалом, и время быть щеголем; время любить Беатриче, и время бегать за «девчонками».
«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в науки – или в глубокую, внутреннюю жизнь, – никто этого не сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общителен», – вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется, можно было бы то же сказать и об этих[25]. Жил он тогда с «таким великолепием и роскошью», что «казался владетельным князем в республике»[26]. Если действительность и преувеличена в этом последнем свидетельстве, ему отчасти можно верить. Весною 1294 года Данте, в числе знатнейших молодых флорентийских рыцарей, назначен был в свиту блистательно чествуемого, восьмидневного гостя Флорентийской Коммуны, венгерского короля, Карла II Анжуйского[27]. Юный король, усердный поклонник Муз, знавший, вероятно, наизусть Дантову песнь:
Вы, движущие мыслью третье небо[28], —
и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти восемь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевременно умершего Карла скажет ему:
...недаром ты меня любил:
Будь я в живых, тебе я показал бы
Плоды моей любви, – не только листья[29].
Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осыпал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется, королевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте. Если, и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы с концами, то теперь, когда вошел он в круг «золотой молодежи», это сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом в грязь перед новыми друзьями и подругами, Виолеттами, Лизеттами и прочими «девчонками», нужна была хоть плохонькая роскошь, – богатая одежда с чужого плеча; но и она так дорого стоила, что он по уши залез в долги.
Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зубы «древней Волчицы» – ненасытимой Алчности богатых, Зависти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти – острия зубов той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже не пифагоренских, божественных, а человеческих или дьявольских чисел.
В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых долгов. Эти скучные мертвые цифры – как бы страшные следы от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.
В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом своим, – мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 декабря того же года – еще 280 флоринов, под двойным поручительством, брата и тестя; 14 мая 1300 года – еще 125; 11 июня того же года, в самый канун избрания в Приоры, – еще 90, у некоего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского ростовщика; а в следующем 1301 году, – уже маленькие займы, в 50 и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до 1301 года, – 1998 флоринов, около 100 000 лир золотом на нынешние деньги: заем, по тогдашнему времени и по средствам должника, – огромнейший[30].
По уши залез в долги и запутался в них так, что уже никогда не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он человеком, стоящим у власти, «одним из главных правителей города», то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы ему таких огромных денег? Мог ли не предвидеть, как легко будет сказать злым языкам, что такие займы не что иное, как, в утонченном и облагороженном виде, «взятки», «лихоимство» и «вымогательство»? Мог ли не сознавать, какое страшное оружие давал он этим в руки злейшим своим врагам?
15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта-Тринита, где происходило майское празднество с веселыми песнями и плясками, отряд молодых вооруженных всадников, Черных, нечаянно или нарочно, наехал сзади на такой же отряд Белых. Началась драка, и кто-то кому-то отрубил нос мечом. «Этот удар меча был началом разрушения нашего города», – вспоминает летописец. «Снова разделился весь город на Больших людей, Grandi, и Маленьких, Piccolini», на Жирный народ и Тощий[31]. А 24 июня, в Иванов день, на площади Баптистерия, знатные граждане из Черных напали на цеховых Консулов, Consule delle Arti, несших, в торжественном шествии, дары покровителю Флоренции, св. Иоанну Предтече. «Мы победили врагов, в бою под Кампальдини, а вы, в награду за то, лишили нас всех должностей и почестей!» – кричали нападавшие. Произошел уличный бой, и весь город был в смятении[32].
В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных, имевший целью мнимое «умиротворение» города – действительный разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и, призванного им, чужеземного хищника, Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. Страх и смятение в городе усилились этим так, что он «весь взялся за оружие»[33].
Синьория решила воспользоваться случаем восстановить мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их главных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором, Данте Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Кавальканти, оказался в числе изгнанных Белых[34]. «Друга своего лучшего не пожалел он для общего блага», или, говоря казенным красноречием тех дней, «друга заклал на алтаре Отечества», – таков общий смысл того, что говорят, или думают, или хотели бы думать об этом почти все жизнеописатели Данте, вслед за первым это сказавшим или подумавшим, Бруни[35]. Но если Данте нечто подобное и чувствовал, то недолго. Месяца через два-три, к удивлению всех и к негодованию Черных, Белым было позволено вернуться из ссылки, между тем как Черные продолжали в ней томиться. Это сделано было, вероятно, не без настояния Данте; так, по крайней мере, скажут впоследствии Черные, не преминув обвинить его в пристрастии к другу, Гвидо Кавальканти.
Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте, то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем чувства более сильного и глубокого, – может быть, раскаяния, и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно: Гвидо, в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел болотной лихорадкой и вернулся во Флоренцию только для того, чтобы через несколько дней умереть.
Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хватило пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо? Сказал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем Вечным Голосом, который все люди услышат когда-нибудь: кровь его на тебе?
Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у Данте бывали минуты, когда все как будто шло очень хорошо, – приоры слушали его внимательно, ростовщики давали деньги охотно, «девчонки» улыбались ласково, – и вдруг точно чья-то ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди белого дня, чувствовал себя, как человек, проснувшийся ночью от тяжелого сна; потихоньку ото всех, – от приоров, ростовщиков и «девчонок», – хватался рукой за скрытую под одеждой и никогда не снимаемую, веревку св. Франциска. Крепко надеялся он на нее; больше, чем верил, – знал, что она его спасет, – со дна адова вытащит, – и не ошибся: вытащит, но если б он знал, – через какие муки Ада!
XIII
МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ
«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поставил Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть на земле и на небе, господствует надо всеми царями и царствами; он превыше всех людей на земле... Всякая душа человеческая да будет ему покорна», – возвещает миру, в 1300-м, великом, юбилейном году, папа Бонифаций VIII[1]. «Я сам император! Ego sum imperator», – отвечает он Альберту Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в Кесари[2]. «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тоскану», – говорит летописец тех дней[3]. Хочет подчинить сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, – весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешается в братоубийственную войну Белых и Черных, в «разделенном городе», Флоренции, – в волчью склоку «тощего народа» с «жирным», бедных с богатыми, – в то, что мы называем «социальной революцией»; он призовет в Италию мнимого «миротворца», Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. «Мы низложим короля Франции», – скажет о нем Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного владычества[4].
Кто же этот человек, желающий господствовать «надо всеми царями и царствами», super reges et regna, возвещающий миру, подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая власть на небе и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчицы, в трех искушениях Данте, – помесь жестокости, жадности и предательства, – продолжатель великих пап, Григория VII, Григория IX, Иннокентия III, в гнусно искаженном виде; предшественник Александра VI Борджиа, великий «антипапа» – «маленький антихрист». Это первый понял Данте и, чтобы начать с ним борьбу, «кинулся в политику, очертя голову».
В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора – за своего, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины – против своего за чужого, потому что знают, или предчувствуют, что чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных, какими не могут не быть, и будут те, кто, от имени Христова, «падши поклонится» князю мира сего.
Черные – такие же Гвельфы, как Белые, но между ними происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения, как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых есть и восставшие против земного владычества пап, за вольную Коммуну Флоренции. Черные, на деле, стоят только за себя, потому что они слишком действенные, или, как мы говорим, «реальные» политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих Италию Коммун за единого Кесаря-Папу, возможного миротворца и объединителя разъединенной Италии[5].
Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Градом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми, как в луже – грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня: «Мне принадлежит всякая власть на небе и на земле», – к другому: «Царство Мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или предчувствует, может быть, один только Данте.
Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и почти неизвестный, гражданин Флоренции с могущественнейшим государем Европы: Данте – с папой Бонифацием VIII.
Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Акваспарта, пытался, вмешательством в государственные дела Коммуны, осуществить «полноту власти» Римского Первосвященника, plenitude potestatis, – Флорентийская Синьория, вдохновляемая новым Приором, Данте, противится тайным козням кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, уполномочивает легата отлучить от Церкви всех правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество.
Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обманутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до сентября, когда избраны будут новые приоры.
Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете Мудрых Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии[6], а 19 июня, в Совете Ста, дважды подал голос против продления службы сотни флорентийских ратников, находившихся в распоряжении папы: «Для службы Государю папе ничего не делать, nihil flat»[7].
Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном владычестве Римского Первосвященника: Unam Sanetam. Вот когда перестает он наконец только думать, смотреть – «созерцать» и начинает «действовать». – «Новая жизнь начинается» для него, уже в порядке не личном, а общественном, не в брачной, а в братской любви.
После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благодатный год, – 1300-й. В этом великом для всего христианского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в Ад. Будучи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра, над оскверненной могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый день продается Христос», жадные дети «древней Волчицы», римские священники, с раннего утра до поздней ночи, загребают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и медных монет – плату за продаваемые паломникам отпущения грехов[8]. Что испытал тогда паломник Данте, – в сознании своем, правовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может быть, и «революционнее», нежели то, что, через двести лет, испытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру:
Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской Церкви) был, и нет его, —
по слову Откровения:
зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est[9].
Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к человеку еще не мертвому, но умирающему, – приближался осенью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раздираемой Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что, за пять лет, предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обреченными, Белые решили отправить посольство к папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города чужеземному хищнику.
Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлученный от Церкви, согласился быть одним из трех послов, отправленных в город Ананью, где находился тогда Бонифаций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в служении родине[10]. «Если я пойду, кто останется? Если я останусь, кто пойдет?» – сказал он будто бы после минутного раздумья, когда ему предложено было участие в посольстве[11]. Слово это запомнили и поставили в счет его «безумной гордыне». Если он этого и не говорил, то, вероятно, мог так думать и чувствовать. Но гордыни здесь не было, а был ужас одиночества: в этом деле, как в стольких других, он чувствовал, что не только во Флоренции, но и во всей Италии, во всем мире, он один знает, что в мире будет.
Данте и Бонифаций встретились в Ананье, как два смертельных врага в поединке, – таких же здесь, в Церкви, как там, в Государстве, – великий пророк Духа, Алигьери, и «большой мясник», Пэкора.
«Дети мои, зачем вы так упрямы? – говорил будто бы папа трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в тайном покое дворца. – Будьте мне покорны, смиритесь! Истинно вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними благословение наше, если добьются они того, чтобы воля наша была исполнена!»[12]
«Мира хочу» – каким оскверненным, в устах великого Антипапы, маленького Антихриста, должно было казаться Данте это святейшее для него слово: «мир», pace!
До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туфлю[13]. Если бы он так же ударил и флорентийского посланника, Данте, то было бы за что, в прошлом и в настоящем, особенно же в будущем: ни один человек так не оскорблял другого, в вечности, как Данте оскорбит Бонифация. Странное видение огненных ям, в аду, куда низринуты будут, вниз головой, вверх пятами, все нечестивые папы, торговавшие Духом Святым, – может быть, уже носилось перед глазами Данте, когда он целовал ноги Бонифация.
Торчали ноги их из каждой ямы,
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»[14]
Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а третий, Данте, остался у папы, в Ананье или в Риме, заложником, и только чудом спасся, как пророк Даниил – из львиных челюстей.
1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Флоренцию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, – маленького Антихриста «черный херувим» и, подняв, через несколько дней, жесточайшую междоусобную войну в городе, опустошает его огнем и мечом[15].
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя – (Ад)[24].
Кажется, в эти дни Данте меньше всего был похож на то жалкое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, каким казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче; он сделался, – или мечтал сделаться, – одним из самых изящных и любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое время», по Екклезиастовой мудрости: «время плакать, и время смеяться»; время быть пугалом, и время быть щеголем; время любить Беатриче, и время бегать за «девчонками».
«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в науки – или в глубокую, внутреннюю жизнь, – никто этого не сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общителен», – вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется, можно было бы то же сказать и об этих[25]. Жил он тогда с «таким великолепием и роскошью», что «казался владетельным князем в республике»[26]. Если действительность и преувеличена в этом последнем свидетельстве, ему отчасти можно верить. Весною 1294 года Данте, в числе знатнейших молодых флорентийских рыцарей, назначен был в свиту блистательно чествуемого, восьмидневного гостя Флорентийской Коммуны, венгерского короля, Карла II Анжуйского[27]. Юный король, усердный поклонник Муз, знавший, вероятно, наизусть Дантову песнь:
Вы, движущие мыслью третье небо[28], —
и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти восемь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевременно умершего Карла скажет ему:
...недаром ты меня любил:
Будь я в живых, тебе я показал бы
Плоды моей любви, – не только листья[29].
Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осыпал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется, королевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте. Если, и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы с концами, то теперь, когда вошел он в круг «золотой молодежи», это сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом в грязь перед новыми друзьями и подругами, Виолеттами, Лизеттами и прочими «девчонками», нужна была хоть плохонькая роскошь, – богатая одежда с чужого плеча; но и она так дорого стоила, что он по уши залез в долги.
Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зубы «древней Волчицы» – ненасытимой Алчности богатых, Зависти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти – острия зубов той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже не пифагоренских, божественных, а человеческих или дьявольских чисел.
В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых долгов. Эти скучные мертвые цифры – как бы страшные следы от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.
В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом своим, – мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 декабря того же года – еще 280 флоринов, под двойным поручительством, брата и тестя; 14 мая 1300 года – еще 125; 11 июня того же года, в самый канун избрания в Приоры, – еще 90, у некоего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского ростовщика; а в следующем 1301 году, – уже маленькие займы, в 50 и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до 1301 года, – 1998 флоринов, около 100 000 лир золотом на нынешние деньги: заем, по тогдашнему времени и по средствам должника, – огромнейший[30].
По уши залез в долги и запутался в них так, что уже никогда не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он человеком, стоящим у власти, «одним из главных правителей города», то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы ему таких огромных денег? Мог ли не предвидеть, как легко будет сказать злым языкам, что такие займы не что иное, как, в утонченном и облагороженном виде, «взятки», «лихоимство» и «вымогательство»? Мог ли не сознавать, какое страшное оружие давал он этим в руки злейшим своим врагам?
15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта-Тринита, где происходило майское празднество с веселыми песнями и плясками, отряд молодых вооруженных всадников, Черных, нечаянно или нарочно, наехал сзади на такой же отряд Белых. Началась драка, и кто-то кому-то отрубил нос мечом. «Этот удар меча был началом разрушения нашего города», – вспоминает летописец. «Снова разделился весь город на Больших людей, Grandi, и Маленьких, Piccolini», на Жирный народ и Тощий[31]. А 24 июня, в Иванов день, на площади Баптистерия, знатные граждане из Черных напали на цеховых Консулов, Consule delle Arti, несших, в торжественном шествии, дары покровителю Флоренции, св. Иоанну Предтече. «Мы победили врагов, в бою под Кампальдини, а вы, в награду за то, лишили нас всех должностей и почестей!» – кричали нападавшие. Произошел уличный бой, и весь город был в смятении[32].
В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных, имевший целью мнимое «умиротворение» города – действительный разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и, призванного им, чужеземного хищника, Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. Страх и смятение в городе усилились этим так, что он «весь взялся за оружие»[33].
Синьория решила воспользоваться случаем восстановить мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их главных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором, Данте Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Кавальканти, оказался в числе изгнанных Белых[34]. «Друга своего лучшего не пожалел он для общего блага», или, говоря казенным красноречием тех дней, «друга заклал на алтаре Отечества», – таков общий смысл того, что говорят, или думают, или хотели бы думать об этом почти все жизнеописатели Данте, вслед за первым это сказавшим или подумавшим, Бруни[35]. Но если Данте нечто подобное и чувствовал, то недолго. Месяца через два-три, к удивлению всех и к негодованию Черных, Белым было позволено вернуться из ссылки, между тем как Черные продолжали в ней томиться. Это сделано было, вероятно, не без настояния Данте; так, по крайней мере, скажут впоследствии Черные, не преминув обвинить его в пристрастии к другу, Гвидо Кавальканти.
Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте, то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем чувства более сильного и глубокого, – может быть, раскаяния, и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно: Гвидо, в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел болотной лихорадкой и вернулся во Флоренцию только для того, чтобы через несколько дней умереть.
Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хватило пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо? Сказал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем Вечным Голосом, который все люди услышат когда-нибудь: кровь его на тебе?
Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у Данте бывали минуты, когда все как будто шло очень хорошо, – приоры слушали его внимательно, ростовщики давали деньги охотно, «девчонки» улыбались ласково, – и вдруг точно чья-то ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди белого дня, чувствовал себя, как человек, проснувшийся ночью от тяжелого сна; потихоньку ото всех, – от приоров, ростовщиков и «девчонок», – хватался рукой за скрытую под одеждой и никогда не снимаемую, веревку св. Франциска. Крепко надеялся он на нее; больше, чем верил, – знал, что она его спасет, – со дна адова вытащит, – и не ошибся: вытащит, но если б он знал, – через какие муки Ада!
XIII
МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ
«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поставил Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть на земле и на небе, господствует надо всеми царями и царствами; он превыше всех людей на земле... Всякая душа человеческая да будет ему покорна», – возвещает миру, в 1300-м, великом, юбилейном году, папа Бонифаций VIII[1]. «Я сам император! Ego sum imperator», – отвечает он Альберту Габсбургскому, когда тот просит подтвердить его избрание в Кесари[2]. «Папа Бонифаций хотел подчинить себе всю Тоскану», – говорит летописец тех дней[3]. Хочет подчинить сначала Тоскану, затем всю Италию, всю Европу, – весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешается в братоубийственную войну Белых и Черных, в «разделенном городе», Флоренции, – в волчью склоку «тощего народа» с «жирным», бедных с богатыми, – в то, что мы называем «социальной революцией»; он призовет в Италию мнимого «миротворца», Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа Красивого. «Мы низложим короля Франции», – скажет о нем Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного владычества[4].
Кто же этот человек, желающий господствовать «надо всеми царями и царствами», super reges et regna, возвещающий миру, подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая власть на небе и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчицы, в трех искушениях Данте, – помесь жестокости, жадности и предательства, – продолжатель великих пап, Григория VII, Григория IX, Иннокентия III, в гнусно искаженном виде; предшественник Александра VI Борджиа, великий «антипапа» – «маленький антихрист». Это первый понял Данте и, чтобы начать с ним борьбу, «кинулся в политику, очертя голову».
В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора – за своего, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины – против своего за чужого, потому что знают, или предчувствуют, что чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных, какими не могут не быть, и будут те, кто, от имени Христова, «падши поклонится» князю мира сего.
Черные – такие же Гвельфы, как Белые, но между ними происходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения, как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых есть и восставшие против земного владычества пап, за вольную Коммуну Флоренции. Черные, на деле, стоят только за себя, потому что они слишком действенные, или, как мы говорим, «реальные» политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали, то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих Италию Коммун за единого Кесаря-Папу, возможного миротворца и объединителя разъединенной Италии[5].
Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Градом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми, как в луже – грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня: «Мне принадлежит всякая власть на небе и на земле», – к другому: «Царство Мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или предчувствует, может быть, один только Данте.
Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и почти неизвестный, гражданин Флоренции с могущественнейшим государем Европы: Данте – с папой Бонифацием VIII.
Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Акваспарта, пытался, вмешательством в государственные дела Коммуны, осуществить «полноту власти» Римского Первосвященника, plenitude potestatis, – Флорентийская Синьория, вдохновляемая новым Приором, Данте, противится тайным козням кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, уполномочивает легата отлучить от Церкви всех правителей города и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество.
Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обманутый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до сентября, когда избраны будут новые приоры.
Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете Мудрых Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, королю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии[6], а 19 июня, в Совете Ста, дважды подал голос против продления службы сотни флорентийских ратников, находившихся в распоряжении папы: «Для службы Государю папе ничего не делать, nihil flat»[7].
Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном владычестве Римского Первосвященника: Unam Sanetam. Вот когда перестает он наконец только думать, смотреть – «созерцать» и начинает «действовать». – «Новая жизнь начинается» для него, уже в порядке не личном, а общественном, не в брачной, а в братской любви.
После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благодатный год, – 1300-й. В этом великом для всего христианского мира юбилейном году совершится сошествие Данте в Ад. Будучи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра, над оскверненной могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый день продается Христос», жадные дети «древней Волчицы», римские священники, с раннего утра до поздней ночи, загребают деревянными лопатками груды золотых, серебряных и медных монет – плату за продаваемые паломникам отпущения грехов[8]. Что испытал тогда паломник Данте, – в сознании своем, правовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может быть, и «революционнее», нежели то, что, через двести лет, испытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру:
Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской Церкви) был, и нет его, —
по слову Откровения:
зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est[9].
Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к человеку еще не мертвому, но умирающему, – приближался осенью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раздираемой Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что, за пять лет, предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обреченными, Белые решили отправить посольство к папе, чтобы принести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города чужеземному хищнику.
Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлученный от Церкви, согласился быть одним из трех послов, отправленных в город Ананью, где находился тогда Бонифаций, то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в служении родине[10]. «Если я пойду, кто останется? Если я останусь, кто пойдет?» – сказал он будто бы после минутного раздумья, когда ему предложено было участие в посольстве[11]. Слово это запомнили и поставили в счет его «безумной гордыне». Если он этого и не говорил, то, вероятно, мог так думать и чувствовать. Но гордыни здесь не было, а был ужас одиночества: в этом деле, как в стольких других, он чувствовал, что не только во Флоренции, но и во всей Италии, во всем мире, он один знает, что в мире будет.
Данте и Бонифаций встретились в Ананье, как два смертельных врага в поединке, – таких же здесь, в Церкви, как там, в Государстве, – великий пророк Духа, Алигьери, и «большой мясник», Пэкора.
«Дети мои, зачем вы так упрямы? – говорил будто бы папа трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в тайном покое дворца. – Будьте мне покорны, смиритесь! Истинно вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними благословение наше, если добьются они того, чтобы воля наша была исполнена!»[12]
«Мира хочу» – каким оскверненным, в устах великого Антипапы, маленького Антихриста, должно было казаться Данте это святейшее для него слово: «мир», pace!
До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туфлю[13]. Если бы он так же ударил и флорентийского посланника, Данте, то было бы за что, в прошлом и в настоящем, особенно же в будущем: ни один человек так не оскорблял другого, в вечности, как Данте оскорбит Бонифация. Странное видение огненных ям, в аду, куда низринуты будут, вниз головой, вверх пятами, все нечестивые папы, торговавшие Духом Святым, – может быть, уже носилось перед глазами Данте, когда он целовал ноги Бонифация.
Торчали ноги их из каждой ямы,
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»[14]
Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а третий, Данте, остался у папы, в Ананье или в Риме, заложником, и только чудом спасся, как пророк Даниил – из львиных челюстей.
1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Флоренцию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, – маленького Антихриста «черный херувим» и, подняв, через несколько дней, жесточайшую междоусобную войну в городе, опустошает его огнем и мечом[15].