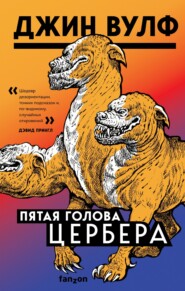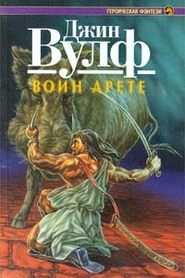По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Солнце и Замок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь же я открыл для себя то, чего никогда прежде не понимал: что все эти корабли и громадные существа – лишь жалкая горстка семян, рассеянных над пустыней, по завершении сева остающейся столь же пустой, как и прежде. Пожалуй, в этот миг я развернулся бы да похромал назад, в каюту… если б не понимал, что, как только переступлю порог, гордыня снова погонит меня наружу.
Наконец я доковылял до едва различимых издали ниспадающих паутинок вант, до канатов, порой поблескивавших в свете звезд, а порой исчезающих из поля зрения в темноте либо на фоне серебристых полотнищ верхних парусов соседней палубы. Сколь бы тонкими они ни казались с виду, каждый из этих канатов превосходил толщиной громадные колонны в нашем соборе.
Под воздушным плащом на мне имелся обычный, шерстяной. Обвязав подол вокруг пояса на манер котомки или узла, я уложил в него свинцовый ларец, вложил в здоровую ногу все силы и прыгнул.
Казалось, все существо мое соткано из невесомых перьев, и посему я полагал, что взлечу вверх плавно, медленно: мне говорили, что именно так взлетают на реи матросы. Не тут-то было. Прыгнул я так же резво, а может быть, и резвее, чем кто-либо здесь, на Ушас, однако полет ее прыгунов замедляется почти сразу, а со мной получилось иначе. Объятый восторгом и ужасом, я летел, летел вверх, нисколько не сбавляя первоначальной скорости.
Вскоре мой ужас изрядно усилился, так как я не сумел сохранить изначального положения: ноги сами собой задрались кверху, в полете меня развернуло на спину, а после закружило в пустоте, словно меч, воздетый над головой в миг победы.
Перед глазами мелькнул сверкающий канат. Не сумев дотянуться до него, я услышал сдавленный вскрик и лишь задним числом понял, что вскрикнул сам. Впереди поблескивал второй канат. По собственной ли воле, нет ли, я ринулся на него, будто на злейшего врага, ухватился, вцепился в него, да так, что чуть не вывихнул из плечевых суставов обе руки, а свинцовый ларец, пронесшийся над головой, едва не задушил меня собственным же плащом. Обхватив ледяной канат и ногами, я кое-как перевел дух.
Сады Обители Абсолюта населены множеством обезьян-ревунов, но, так как слуги низшего ранга (землекопы, носильщики и так далее) от случая к случаю ловят их на обед, людей они опасаются. Сколь часто я завидовал этим зверькам, наблюдая, как они взбегают вверх по стволу дерева, не падая и словно бы вовсе не подозревая о неодолимом тяготении Урд, а теперь превратился в одного из подобных зверьков сам. Едва уловимое притяжение корабля подсказывало, что низ находится там же, где и просторная палуба, но это ощущение казалось смутным, будто воспоминание о воспоминаниях: очевидно, когда-то я падал с большой высоты, а теперь вспомнил, как вспоминал то падение раньше.
Однако канат оказался сродни тропе через пампасы: подъем ничуть не труднее спуска, и ни то ни другое не составляет труда. Тысячи прядей служили прекрасной опорой, и я, точно маленький длинноногий зверек, зайчишка, скачущий вдоль бревна, полез наверх.
Таким образом я вскоре добрался до рея – поперечины для крепления нижнего грот-марселя. С нее я перепрыгнул на другой канат, потоньше, а после на третий, а оседлав рей, к которому вел он, обнаружил, что будто бы ни на чем и не сижу. Шепот «низа» умолк; коричневато-серая обшивка корабля просто плыла сквозь пустоту где-то на самой границе видимости.
Над головой по-прежнему вздымались многие ярусы серебряных парусов, с виду столь же бесчисленных, как и до подъема на рей. Мачты на палубах справа и слева клонились в стороны, точно вильчатые острия стрелы для птичьей охоты – или, скорее, множества рядов подобных стрел, так как за ближайшими возвышались еще и еще мачты, отделенные от моей, по крайней мере, десятками лиг. Будто персты Предвечного, указывали они на рубежи мироздания, а верхние из их солнечных парусов, теряясь в мерцании звезд, казались лишь блестками мишуры. Пожалуй, отсюда я вполне мог бы (как и задумал) зашвырнуть ларец в пустоту – чтоб он, если будет на то воля Предвечного, когда-нибудь попал в руки существа иной расы, в руки иного разума.
Удержали меня два соображения. Первым из них оказалась не столько мысль, сколько память о давнем решении, принятом, когда я трудился над рукописью, а все догадки насчет кораблей иеродул были для меня внове – решении подождать, пока наше судно не пронзит ткань времени. Ту, первоначальную рукопись с повестью о моих странствиях я уже вверил попечению библиотекарей мастера Ультана, а в библиотеке она просуществует никак не дольше самой Урд.
Этот, второй экземпляр я (поначалу) предназначил для следующего творения, дабы, даже не выдержав предстоящего мне великого испытания, отправить хоть малую – неважно, сколь малую – частицу нашего мира за рубежи мироздания.
Теперь, глядя на звезды, на солнца, столь отдаленные, что планет вокруг и не разглядишь, хотя некоторые куда больше Серена, и на целые водовороты звезд таких далеких, что миллиарды их кажутся одной-единственной звездочкой, я с изумлением вспомнил собственную наивность. Еще недавно все это казалось слишком мелким для моих притязаний… Быть может, с тех пор вселенная выросла (хотя мисты утверждают, будто она больше не растет)? А может, с тех пор вырос я сам?
Второе соображение тоже было, скорее, не мыслью, а всего лишь неодолимым инстинктивным желанием: мне очень хотелось взобраться на самый верх. В защиту своей решимости могу сказать, что понимал: больше подобной возможности может и не представиться, что высота положения не позволяла довольствоваться победой менее той, которую одерживает простой матрос всякий раз, когда этого требует служба, и так далее, и так далее, и так далее.
Однако логика логикой, а дело было в другом – в восторге от этой затеи. Многие годы не находивший радости ни в чем, кроме побед, я снова почувствовал себя мальчишкой. Мечтая взобраться на вершину Башни Величия, я даже не подозревал, что Башня Величия сама может мечтать о взлете к небу, но теперь-то знал, что почем. Наш корабль вознесся за пределы небес, и мне хотелось подняться с ним как можно выше.
Чем дальше, тем легче, тем опаснее становился подъем. Тяжести во мне не осталось ни крупицы. Прыжок за прыжком, прыжок за прыжком… Ухватившись за какой-нибудь фал или шкот, я подтягивался, закидывал на него ногу и, оттолкнувшись от него, прыгал снова.
После дюжины подобных взлетов меня осенило: зачем останавливаться так часто, если до вершины мачты, ни за что не хватаясь, можно добраться одним прыжком? С этой мыслью я взвился ввысь, подобно ракете на праздник Летнего Солнцестояния – нетрудно было вообразить, будто полет мой сопровождает точно такой же свист, а следом за мной тянется пышный хвост из алых и лазоревых искр.
Паруса и канаты замелькали перед глазами бесконечной чередой. Раз мне, кажется, удалось углядеть нечто непонятное, золотистое с алыми прожилками, с виду будто парящее в пространстве меж двух парусов – должно быть, какой-то прибор, установленный как можно ближе к звездам, или просто предмет, беспечно оставленный на палубе и после незначительной смены курса уплывший прочь.
Однако долго раздумывать обо всем этом было некогда: я ведь по-прежнему несся вверх.
Вот впереди показался грот-марс. Я потянулся к фалам. Здесь их толщина вряд ли намного превосходила толщину пальца, хотя любой парус мог бы накрыть разом две сотни лугов.
Фал оказался дальше, чем я думал, и дотянуться до него мне не удалось. За первым фалом промелькнул мимо второй.
А за вторым – по крайней мере, в трех кубитах от вытянутой руки – и третий.
Попробовав перевернуться, подобно пловцу, я сумел всего лишь поднять колено к груди. Блестящие канаты такелажа далеко отстояли один от другого даже внизу, где их только для этой мачты имелось более сотни, а здесь не осталось ни единого, кроме топенанта бом-брам-рея. Дотянуться я до него дотянулся, однако ухватиться не смог.
II. Пятый матрос
Тут я и понял: жизнь моя подошла к концу. На «Самру» за корму спускали длинный канат, последнюю надежду матроса, упавшего за борт. Имелся ли такой же за кормой нашего корабля, я не знал, но если и да, мне это ничем бы не помогло. Моя беда (ох, как велик соблазн написать «моя трагедия») заключалась не в том, что меня, упавшего с палубы, унесло за корму. Я поднялся выше верхушек мачт и, мало этого, продолжал подниматься – или, вернее, удаляться от корабля, так как вполне мог и падать головою вперед – с первоначальной, нисколько не убывающей скоростью.
Корабль подо мною – или, по крайней мере, со стороны ног – казался стремительно уменьшающимся серебристым материком; черные мачты и реи сделались тонкими, будто усики сверчков. Звезды вокруг полыхали без удержу, сияли невиданным на Урд великолепием. Вспомнив об Урд, я (и вовсе не от велика ума – скорее, наоборот) принялся искать ее среди звезд – зеленую, будто Луна, только увенчанную с обеих сторон белыми шапочками ледников, смыкающихся над нашими стылыми землями… но не нашел ни Урд, ни даже оранжевого с алым отливом диска Старого Солнца.
Поразмыслив, я понял, что просто смотрю не в ту сторону: если Урд вообще различима, то место ей за кормой. Однако, взглянув туда, я увидел – нет, вовсе не нашу Урд, но разрастающуюся, кипучую, бурлящую круговерть цвета сажи – того самого, что черней черного. Больше всего схожую с вихрем, или водоворотом, ее окаймляли кольцом разноцветные сполохи, точно миллиарды звезд затеяли пляс в пустоте.
Тогда-то мне и сделалось ясно: чудо свершилось, но я проморгал его, увлеченный копированием неких нудных сентенций по поводу мастера Гюрло или Асцианской войны. Мы пронзили ткань времени. Круговерть цвета сажи – конец мироздания.
Конец мироздания… либо его начало, и если так, то сверкающий хоровод звезд – это россыпи новых солнц, единственное воистину волшебное кольцо, подобного коему вселенная еще не видывала и не увидит впредь. Приветствуя их, я испустил вопль радости, хотя моего голоса не слышал никто, кроме Предвечного да меня самого.
Подтянув к себе плащ, я вынул из его подола свинцовый ларец, обеими руками поднял ларец над головой и с торжествующим криком метнул за пределы незримого воздушного плаща, прочь из пределов нашего корабля, прочь из вселенной, привычной и мне и ларцу, встречь новому творению – словно прощальный дар творения старого.
В тот же миг судьба моя подхватила меня и отшвырнула назад. Нет, не прямиком вниз, к покинутой части палубы, навстречу весьма вероятной гибели, но вниз и вперед. Верхушки мачт стремительно понеслись ко мне. Наклонив голову, я разглядел ближайшую; она оказалась последней. Еще эль-другой правее, и клотик мачты размозжил бы мне голову, однако меня пронесло между верхней ее оконечностью и бом-брам-реем, в стороне от бык-горденей. Я обогнал корабль.
Впереди – далеко-далеко и совсем под иным углом – показалась еще одна из бессчетного множества мачт, унизанная парусами, будто дерево листьями, причем все они оказались не знакомыми, прямоугольной формы, а треугольными, косыми. Поначалу мне показалось, что я пролечу мимо, обгоню и ее, затем – что вот-вот расшибусь о нее. В отчаянии взмахнув руками, я что было сил ухватился за бом-кливерлеер…
…и завертелся вокруг него, точно флаг на игривом, непостоянном ветру.
Ладони обожгло ледяным холодом. Тяжко дыша, я огляделся вокруг, собрал все силы и прыгнул вниз, вдоль бушприта – да чем еще, кроме бушприта, могла оказаться последняя мачта? Пожалуй, если б меня с лету ударило о нос корабля, я бы ничуть о том не пожалел. В этот миг мне хотелось лишь одного и ничего иного – коснуться корпуса корабля, где угодно и каким угодно манером.
По счастью, угодил я в полотнище стакселя и заскользил по его необъятной серебристой поверхности вниз. Казалось, кроме поверхности в нем ничего больше и нет, словно парус – тоньше, неосязаемей шепота – сшит из чистого света. В скольжении меня завертело, закружило, точно лист, подхваченный ветром, и я кубарем скатился на нашу палубу.
Вернее сказать, на какую-то из палуб, так как я вовсе не был уверен, что вернулся именно на ту палубу, с которой полез на мачту. Хромая нога мучительно заныла. В попытках отдышаться я, почти не удерживаемый тяготением корабля, распростерся на палубе во весь рост.
Однако участившееся дыхание даже не думало успокаиваться или хотя бы замедлиться, и, сделав около сотни частых, судорожных вдохов, я сообразил, что возможности воздушного плаща на исходе, собрался с силами и поднялся. Хоть и почти задохнувшемуся, на ноги встать мне удалось легко, даже чересчур – еще немного, и я взмыл бы вверх снова. Прохромав около чейна, я доковылял до люка, из последних сил распахнул его настежь и поспешно захлопнул за собой крышку. Внутренний люк отворился едва ли не сам по себе.
Воздух плаща тут же сделался свеж, словно благородный юный бриз, ворвавшийся в зловонную темницу. Дабы ускорить дело, в коридоре я немедля сорвал ожерелье с шеи и замер на месте, вдыхая прохладный, чистый воздух, практически не понимая, где нахожусь, но всей душой радуясь тому, что снова внутри, под палубой корабля, а не болтаюсь над его парусами обломком разбитого штормом суденышка.
Коридор оказался неширок и светел, а освещали его яркие до боли в глазах голубые огни, неспешно ползшие по стенам и потолку, мигавшие, словно оглядывая коридор откуда-то со стороны, не будучи его частью.
Если я не без чувств либо не близок к обмороку, в моей памяти сохраняется все до мелочей. Вспомнив все коридоры, которыми шел от каюты до ведущего на палубу люка, я понял, что этот мне незнаком. Большая часть тех напоминала убранством гостиные роскошных шато – картины, до блеска начищенные полы… Здесь же мореные доски палубного настила уступили место ковру вроде травы, вцеплявшейся крохотными зубчиками в подошвы сапог, как будто каждая из иссиня-зеленых травинок – не травинка, а миниатюрный клинок.
Таким образом, я оказался перед лицом выбора, причем выбора не из приятных. Там, за спиной, люк. Можно вновь выйти наружу и искать свою часть корабля, перебираясь с палубы на палубу. А можно направиться вперед, вдоль коридора, и поискать путь обратно изнутри. Конечно, сия альтернатива обладала изрядным недостатком: внутри я легко мог заблудиться… Но что может быть хуже, чем, как совсем недавно, заблудиться среди такелажа, а то и вовсе навек потеряться в бескрайней пустоте среди солнц, куда меня – опять же, совсем недавно – не унесло только чудом?
Так я и стоял возле люка, не зная, на что решиться, пока откуда-то издали не донеслись голоса. Чужая речь заставила вспомнить, что плащ мой до сих пор нелепо обвязан вокруг пояса, и, едва я закончил приводить себя в порядок, говорящие выступили из-за поворота.
Все они были вооружены, но этим их сходство и ограничивалось. Один казался человеком вполне обычным, из тех, кого каждый день можно встретить в окрестностях доков Несса. Второй принадлежал к расе, с которой я не сталкивался ни в одном из множества странствий: высокий, как экзультант, он разительно отличался от первого цветом кожи – не розовато-смуглой, которую изволим называть белой мы, но воистину белой, точно морская пена, а голову его украшал венчик столь же белых волос. Третьей оказалась женщина ростом разве что самую малость ниже меня, а толщиной рук и ног превосходившая всех женщин, каких мне когда-либо доводилось видеть. За этими тремя, будто гоня их перед собой, следовал некто, с виду похожий на рослого, плечистого здоровяка, с ног до головы закованного в латный доспех.
Пожалуй, не останови я их, они прошли бы мимо без единого слова, но я, выступив на середину коридора, загородил им путь и объяснил, в какую попал передрягу.
– Я доложил об этом, – заверил меня некто в латном доспехе. – За тобой придут или пошлют с тобою меня. А пока что ты должен будешь пойти со мной.
– Куда же вы идете? – спросил я, но он, не дослушав вопроса, отвернулся и подал знак остальным.
– Идем, – сказала женщина и поцеловала меня.
Поцелуй был недолог, однако в нем чувствовалась грубая страсть, а ее пальцы, сомкнувшиеся на моем локте, не уступали силой мужским.
– Идем, не упрямься, – поддержал ее обычный матрос (на самом деле вовсе не выглядевший обычным: довольно симпатичное лицо его лучилось несвойственным матросской братии дружелюбием, а песчано-русые волосы выдавали в нем уроженца южных земель). – Иначе они не поймут, где тебя искать, а то и вовсе искать не станут, хотя это, пожалуй, не так уж плохо.
С этим он двинулся вперед, а мы с женщиной, придерживающей меня за локоть, последовали за ним.
Наконец я доковылял до едва различимых издали ниспадающих паутинок вант, до канатов, порой поблескивавших в свете звезд, а порой исчезающих из поля зрения в темноте либо на фоне серебристых полотнищ верхних парусов соседней палубы. Сколь бы тонкими они ни казались с виду, каждый из этих канатов превосходил толщиной громадные колонны в нашем соборе.
Под воздушным плащом на мне имелся обычный, шерстяной. Обвязав подол вокруг пояса на манер котомки или узла, я уложил в него свинцовый ларец, вложил в здоровую ногу все силы и прыгнул.
Казалось, все существо мое соткано из невесомых перьев, и посему я полагал, что взлечу вверх плавно, медленно: мне говорили, что именно так взлетают на реи матросы. Не тут-то было. Прыгнул я так же резво, а может быть, и резвее, чем кто-либо здесь, на Ушас, однако полет ее прыгунов замедляется почти сразу, а со мной получилось иначе. Объятый восторгом и ужасом, я летел, летел вверх, нисколько не сбавляя первоначальной скорости.
Вскоре мой ужас изрядно усилился, так как я не сумел сохранить изначального положения: ноги сами собой задрались кверху, в полете меня развернуло на спину, а после закружило в пустоте, словно меч, воздетый над головой в миг победы.
Перед глазами мелькнул сверкающий канат. Не сумев дотянуться до него, я услышал сдавленный вскрик и лишь задним числом понял, что вскрикнул сам. Впереди поблескивал второй канат. По собственной ли воле, нет ли, я ринулся на него, будто на злейшего врага, ухватился, вцепился в него, да так, что чуть не вывихнул из плечевых суставов обе руки, а свинцовый ларец, пронесшийся над головой, едва не задушил меня собственным же плащом. Обхватив ледяной канат и ногами, я кое-как перевел дух.
Сады Обители Абсолюта населены множеством обезьян-ревунов, но, так как слуги низшего ранга (землекопы, носильщики и так далее) от случая к случаю ловят их на обед, людей они опасаются. Сколь часто я завидовал этим зверькам, наблюдая, как они взбегают вверх по стволу дерева, не падая и словно бы вовсе не подозревая о неодолимом тяготении Урд, а теперь превратился в одного из подобных зверьков сам. Едва уловимое притяжение корабля подсказывало, что низ находится там же, где и просторная палуба, но это ощущение казалось смутным, будто воспоминание о воспоминаниях: очевидно, когда-то я падал с большой высоты, а теперь вспомнил, как вспоминал то падение раньше.
Однако канат оказался сродни тропе через пампасы: подъем ничуть не труднее спуска, и ни то ни другое не составляет труда. Тысячи прядей служили прекрасной опорой, и я, точно маленький длинноногий зверек, зайчишка, скачущий вдоль бревна, полез наверх.
Таким образом я вскоре добрался до рея – поперечины для крепления нижнего грот-марселя. С нее я перепрыгнул на другой канат, потоньше, а после на третий, а оседлав рей, к которому вел он, обнаружил, что будто бы ни на чем и не сижу. Шепот «низа» умолк; коричневато-серая обшивка корабля просто плыла сквозь пустоту где-то на самой границе видимости.
Над головой по-прежнему вздымались многие ярусы серебряных парусов, с виду столь же бесчисленных, как и до подъема на рей. Мачты на палубах справа и слева клонились в стороны, точно вильчатые острия стрелы для птичьей охоты – или, скорее, множества рядов подобных стрел, так как за ближайшими возвышались еще и еще мачты, отделенные от моей, по крайней мере, десятками лиг. Будто персты Предвечного, указывали они на рубежи мироздания, а верхние из их солнечных парусов, теряясь в мерцании звезд, казались лишь блестками мишуры. Пожалуй, отсюда я вполне мог бы (как и задумал) зашвырнуть ларец в пустоту – чтоб он, если будет на то воля Предвечного, когда-нибудь попал в руки существа иной расы, в руки иного разума.
Удержали меня два соображения. Первым из них оказалась не столько мысль, сколько память о давнем решении, принятом, когда я трудился над рукописью, а все догадки насчет кораблей иеродул были для меня внове – решении подождать, пока наше судно не пронзит ткань времени. Ту, первоначальную рукопись с повестью о моих странствиях я уже вверил попечению библиотекарей мастера Ультана, а в библиотеке она просуществует никак не дольше самой Урд.
Этот, второй экземпляр я (поначалу) предназначил для следующего творения, дабы, даже не выдержав предстоящего мне великого испытания, отправить хоть малую – неважно, сколь малую – частицу нашего мира за рубежи мироздания.
Теперь, глядя на звезды, на солнца, столь отдаленные, что планет вокруг и не разглядишь, хотя некоторые куда больше Серена, и на целые водовороты звезд таких далеких, что миллиарды их кажутся одной-единственной звездочкой, я с изумлением вспомнил собственную наивность. Еще недавно все это казалось слишком мелким для моих притязаний… Быть может, с тех пор вселенная выросла (хотя мисты утверждают, будто она больше не растет)? А может, с тех пор вырос я сам?
Второе соображение тоже было, скорее, не мыслью, а всего лишь неодолимым инстинктивным желанием: мне очень хотелось взобраться на самый верх. В защиту своей решимости могу сказать, что понимал: больше подобной возможности может и не представиться, что высота положения не позволяла довольствоваться победой менее той, которую одерживает простой матрос всякий раз, когда этого требует служба, и так далее, и так далее, и так далее.
Однако логика логикой, а дело было в другом – в восторге от этой затеи. Многие годы не находивший радости ни в чем, кроме побед, я снова почувствовал себя мальчишкой. Мечтая взобраться на вершину Башни Величия, я даже не подозревал, что Башня Величия сама может мечтать о взлете к небу, но теперь-то знал, что почем. Наш корабль вознесся за пределы небес, и мне хотелось подняться с ним как можно выше.
Чем дальше, тем легче, тем опаснее становился подъем. Тяжести во мне не осталось ни крупицы. Прыжок за прыжком, прыжок за прыжком… Ухватившись за какой-нибудь фал или шкот, я подтягивался, закидывал на него ногу и, оттолкнувшись от него, прыгал снова.
После дюжины подобных взлетов меня осенило: зачем останавливаться так часто, если до вершины мачты, ни за что не хватаясь, можно добраться одним прыжком? С этой мыслью я взвился ввысь, подобно ракете на праздник Летнего Солнцестояния – нетрудно было вообразить, будто полет мой сопровождает точно такой же свист, а следом за мной тянется пышный хвост из алых и лазоревых искр.
Паруса и канаты замелькали перед глазами бесконечной чередой. Раз мне, кажется, удалось углядеть нечто непонятное, золотистое с алыми прожилками, с виду будто парящее в пространстве меж двух парусов – должно быть, какой-то прибор, установленный как можно ближе к звездам, или просто предмет, беспечно оставленный на палубе и после незначительной смены курса уплывший прочь.
Однако долго раздумывать обо всем этом было некогда: я ведь по-прежнему несся вверх.
Вот впереди показался грот-марс. Я потянулся к фалам. Здесь их толщина вряд ли намного превосходила толщину пальца, хотя любой парус мог бы накрыть разом две сотни лугов.
Фал оказался дальше, чем я думал, и дотянуться до него мне не удалось. За первым фалом промелькнул мимо второй.
А за вторым – по крайней мере, в трех кубитах от вытянутой руки – и третий.
Попробовав перевернуться, подобно пловцу, я сумел всего лишь поднять колено к груди. Блестящие канаты такелажа далеко отстояли один от другого даже внизу, где их только для этой мачты имелось более сотни, а здесь не осталось ни единого, кроме топенанта бом-брам-рея. Дотянуться я до него дотянулся, однако ухватиться не смог.
II. Пятый матрос
Тут я и понял: жизнь моя подошла к концу. На «Самру» за корму спускали длинный канат, последнюю надежду матроса, упавшего за борт. Имелся ли такой же за кормой нашего корабля, я не знал, но если и да, мне это ничем бы не помогло. Моя беда (ох, как велик соблазн написать «моя трагедия») заключалась не в том, что меня, упавшего с палубы, унесло за корму. Я поднялся выше верхушек мачт и, мало этого, продолжал подниматься – или, вернее, удаляться от корабля, так как вполне мог и падать головою вперед – с первоначальной, нисколько не убывающей скоростью.
Корабль подо мною – или, по крайней мере, со стороны ног – казался стремительно уменьшающимся серебристым материком; черные мачты и реи сделались тонкими, будто усики сверчков. Звезды вокруг полыхали без удержу, сияли невиданным на Урд великолепием. Вспомнив об Урд, я (и вовсе не от велика ума – скорее, наоборот) принялся искать ее среди звезд – зеленую, будто Луна, только увенчанную с обеих сторон белыми шапочками ледников, смыкающихся над нашими стылыми землями… но не нашел ни Урд, ни даже оранжевого с алым отливом диска Старого Солнца.
Поразмыслив, я понял, что просто смотрю не в ту сторону: если Урд вообще различима, то место ей за кормой. Однако, взглянув туда, я увидел – нет, вовсе не нашу Урд, но разрастающуюся, кипучую, бурлящую круговерть цвета сажи – того самого, что черней черного. Больше всего схожую с вихрем, или водоворотом, ее окаймляли кольцом разноцветные сполохи, точно миллиарды звезд затеяли пляс в пустоте.
Тогда-то мне и сделалось ясно: чудо свершилось, но я проморгал его, увлеченный копированием неких нудных сентенций по поводу мастера Гюрло или Асцианской войны. Мы пронзили ткань времени. Круговерть цвета сажи – конец мироздания.
Конец мироздания… либо его начало, и если так, то сверкающий хоровод звезд – это россыпи новых солнц, единственное воистину волшебное кольцо, подобного коему вселенная еще не видывала и не увидит впредь. Приветствуя их, я испустил вопль радости, хотя моего голоса не слышал никто, кроме Предвечного да меня самого.
Подтянув к себе плащ, я вынул из его подола свинцовый ларец, обеими руками поднял ларец над головой и с торжествующим криком метнул за пределы незримого воздушного плаща, прочь из пределов нашего корабля, прочь из вселенной, привычной и мне и ларцу, встречь новому творению – словно прощальный дар творения старого.
В тот же миг судьба моя подхватила меня и отшвырнула назад. Нет, не прямиком вниз, к покинутой части палубы, навстречу весьма вероятной гибели, но вниз и вперед. Верхушки мачт стремительно понеслись ко мне. Наклонив голову, я разглядел ближайшую; она оказалась последней. Еще эль-другой правее, и клотик мачты размозжил бы мне голову, однако меня пронесло между верхней ее оконечностью и бом-брам-реем, в стороне от бык-горденей. Я обогнал корабль.
Впереди – далеко-далеко и совсем под иным углом – показалась еще одна из бессчетного множества мачт, унизанная парусами, будто дерево листьями, причем все они оказались не знакомыми, прямоугольной формы, а треугольными, косыми. Поначалу мне показалось, что я пролечу мимо, обгоню и ее, затем – что вот-вот расшибусь о нее. В отчаянии взмахнув руками, я что было сил ухватился за бом-кливерлеер…
…и завертелся вокруг него, точно флаг на игривом, непостоянном ветру.
Ладони обожгло ледяным холодом. Тяжко дыша, я огляделся вокруг, собрал все силы и прыгнул вниз, вдоль бушприта – да чем еще, кроме бушприта, могла оказаться последняя мачта? Пожалуй, если б меня с лету ударило о нос корабля, я бы ничуть о том не пожалел. В этот миг мне хотелось лишь одного и ничего иного – коснуться корпуса корабля, где угодно и каким угодно манером.
По счастью, угодил я в полотнище стакселя и заскользил по его необъятной серебристой поверхности вниз. Казалось, кроме поверхности в нем ничего больше и нет, словно парус – тоньше, неосязаемей шепота – сшит из чистого света. В скольжении меня завертело, закружило, точно лист, подхваченный ветром, и я кубарем скатился на нашу палубу.
Вернее сказать, на какую-то из палуб, так как я вовсе не был уверен, что вернулся именно на ту палубу, с которой полез на мачту. Хромая нога мучительно заныла. В попытках отдышаться я, почти не удерживаемый тяготением корабля, распростерся на палубе во весь рост.
Однако участившееся дыхание даже не думало успокаиваться или хотя бы замедлиться, и, сделав около сотни частых, судорожных вдохов, я сообразил, что возможности воздушного плаща на исходе, собрался с силами и поднялся. Хоть и почти задохнувшемуся, на ноги встать мне удалось легко, даже чересчур – еще немного, и я взмыл бы вверх снова. Прохромав около чейна, я доковылял до люка, из последних сил распахнул его настежь и поспешно захлопнул за собой крышку. Внутренний люк отворился едва ли не сам по себе.
Воздух плаща тут же сделался свеж, словно благородный юный бриз, ворвавшийся в зловонную темницу. Дабы ускорить дело, в коридоре я немедля сорвал ожерелье с шеи и замер на месте, вдыхая прохладный, чистый воздух, практически не понимая, где нахожусь, но всей душой радуясь тому, что снова внутри, под палубой корабля, а не болтаюсь над его парусами обломком разбитого штормом суденышка.
Коридор оказался неширок и светел, а освещали его яркие до боли в глазах голубые огни, неспешно ползшие по стенам и потолку, мигавшие, словно оглядывая коридор откуда-то со стороны, не будучи его частью.
Если я не без чувств либо не близок к обмороку, в моей памяти сохраняется все до мелочей. Вспомнив все коридоры, которыми шел от каюты до ведущего на палубу люка, я понял, что этот мне незнаком. Большая часть тех напоминала убранством гостиные роскошных шато – картины, до блеска начищенные полы… Здесь же мореные доски палубного настила уступили место ковру вроде травы, вцеплявшейся крохотными зубчиками в подошвы сапог, как будто каждая из иссиня-зеленых травинок – не травинка, а миниатюрный клинок.
Таким образом, я оказался перед лицом выбора, причем выбора не из приятных. Там, за спиной, люк. Можно вновь выйти наружу и искать свою часть корабля, перебираясь с палубы на палубу. А можно направиться вперед, вдоль коридора, и поискать путь обратно изнутри. Конечно, сия альтернатива обладала изрядным недостатком: внутри я легко мог заблудиться… Но что может быть хуже, чем, как совсем недавно, заблудиться среди такелажа, а то и вовсе навек потеряться в бескрайней пустоте среди солнц, куда меня – опять же, совсем недавно – не унесло только чудом?
Так я и стоял возле люка, не зная, на что решиться, пока откуда-то издали не донеслись голоса. Чужая речь заставила вспомнить, что плащ мой до сих пор нелепо обвязан вокруг пояса, и, едва я закончил приводить себя в порядок, говорящие выступили из-за поворота.
Все они были вооружены, но этим их сходство и ограничивалось. Один казался человеком вполне обычным, из тех, кого каждый день можно встретить в окрестностях доков Несса. Второй принадлежал к расе, с которой я не сталкивался ни в одном из множества странствий: высокий, как экзультант, он разительно отличался от первого цветом кожи – не розовато-смуглой, которую изволим называть белой мы, но воистину белой, точно морская пена, а голову его украшал венчик столь же белых волос. Третьей оказалась женщина ростом разве что самую малость ниже меня, а толщиной рук и ног превосходившая всех женщин, каких мне когда-либо доводилось видеть. За этими тремя, будто гоня их перед собой, следовал некто, с виду похожий на рослого, плечистого здоровяка, с ног до головы закованного в латный доспех.
Пожалуй, не останови я их, они прошли бы мимо без единого слова, но я, выступив на середину коридора, загородил им путь и объяснил, в какую попал передрягу.
– Я доложил об этом, – заверил меня некто в латном доспехе. – За тобой придут или пошлют с тобою меня. А пока что ты должен будешь пойти со мной.
– Куда же вы идете? – спросил я, но он, не дослушав вопроса, отвернулся и подал знак остальным.
– Идем, – сказала женщина и поцеловала меня.
Поцелуй был недолог, однако в нем чувствовалась грубая страсть, а ее пальцы, сомкнувшиеся на моем локте, не уступали силой мужским.
– Идем, не упрямься, – поддержал ее обычный матрос (на самом деле вовсе не выглядевший обычным: довольно симпатичное лицо его лучилось несвойственным матросской братии дружелюбием, а песчано-русые волосы выдавали в нем уроженца южных земель). – Иначе они не поймут, где тебя искать, а то и вовсе искать не станут, хотя это, пожалуй, не так уж плохо.
С этим он двинулся вперед, а мы с женщиной, придерживающей меня за локоть, последовали за ним.