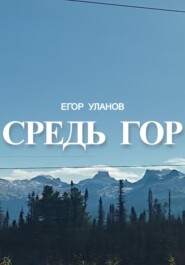По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тунисские напевы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты говоришь, тебе трудно сидеть взаперти, – наконец вытеснил из себя юноша – Завтра я отведу тебя на море.
– Но как? – наклонилась она, взяв его за руку.
– Не важно. Главное, завтра вечером.
– Как же это волнительно! Какое ты чудо, Кирго! – в восхищении вскрикнула она и обняла его за шею.
12
Первое, что увидела Гайдэ, скользнув из прихожей – это городская стена, которая как мы помним, была перед домом и завершала улицу. На стене рос дикий вьюн с маленькими белыми цветочками. Он толи спускался сверху, толи поднимался туда от земли; никто не знал, потому как никто не сажал его и не ухаживал за ним.
Тень от дома падала на стену; тот вьюн, что забрался выше, был весь иссушен, так как солнце нещадно жгло его; а тот, что был у земли – спокойно цвёл полный влаги и жизни, защищённый тенью. И это была словно иллюстрация к какому-то вечному, изначальному закону жизни. Но Гайдэ было не до того. Они с Кирго уже спускались вниз по улице. Чадра непривычно путалась в ногах у девы; чёрная ткань начинала нагреваться, складки по временам сползали на лицо, загораживая обзор.
– Неужели нельзя снять с себя эту глупую тучу? – возмутилась она.
– В городе нас непременно увидят – начал Кирго, улыбаясь, – и если ты будешь не покрыта, тебя схватят, а меня в лучшем случае накажут.
– Даже нарушая правила, мы нарушаем их вполовину! – обиженно заметила Гайдэ.
И они шли теперь мимо Великой мечети Сусса, по площади Медины, сворачивали в проулок мимо рынка; средь двухэтажных белых домов виляли узкие проходы; в открытых лавках сидели толстые арабы, с любопытством глазеющие на любого прохожего кофейными глазками. Подойдя к воротам, ведущим к пристани, Кирго сказал: – Это выход из города, здесь стены заканчиваются, а далее идёт дорога к гавани и поворот к морю.
– Мы ведь идём к одинокому пляжу? – вопросила Гайдэ, – Там я смогу снять Чадру.
Спустившись за стены, они пошли медленнее. Вокруг не было ни одного деревца, лишь пыльные кусты и кактусы. По широкой утрамбованной копытами дороге временами прокатывались одинокий наездник или дрянная повозка торговца, запряженная клячей. Гайдэ обернулась и посмотрела на город Сусс. Он стоял на пригорке, оползая вниз оранжевыми стенами и белыми домами. Отсюда, снизу, он казался одним большим дворцом с множеством комнат.
Вдруг Гайдэ вздрогнула. У обочины лежала мертвая собака; судя по борозде у неё на боку, она бросилась под колесо. Мухи облепили нескладный труп: жужжали, махали крылышками, с наслаждением обсиживая открывшуюся плоть. Жара стояла обыденная, и от лохматого тела шёл пар. Гайдэ, проходя мимо, съежилась, но не отвела взгляда, старательно разглядывая каждую деталь; за время проведенное в гареме дева отвыкла от ужасных картин жизни. И теперь мёртвая собака была для неё чем-то новым, неведомыми, к тому же очень живописным. Застывшие на облезлой морде страдания, стеклянные глаза; распухший язык, торчащий из полуоткрытой пасти, куда мухи стремились с особым рвением. Завораживающая картина, не правда ли?
Вот герои наши прошли уже мимо пристани. Вдалеке сидели несколько нищих, просящих подаяний: грязных и рябых, с волосами колтуном и сальными лицами, с язвами на руках и телах; живой укор всевышнему выражали оне. Их беспрестанно отгоняли подальше от деревянных прилавков, где торговали рыбой; а они всегда медленно возвращались на прежнее место. И эта живая картина показалась Гайдэ интересной; пока они шли, она ещё пару раз оборачивалась, чтобы посмотреть, чем там всё закончится.
Но вот Кирго указал на поворот, и они брели уже по степи, удаляясь всё дальше. На бесплодном пространстве, как родинки разбросаны были низкие сакли. В убогих жилищах, казалось, никто не жил и лишь изредка можно было видеть слабые не убедительные следы чьего-то присутствия.
Долог был путь, и пусть вечернее солнце уже затухало, подобно отгоревшей свече, а жар песков, тем не менее, утомлял и раздражал всё более. Наконец, Кирго показал куда-то пальцем, они сошли с дороги. Через двадцать минут нежные волны гладили ноги Гайдэ. Дева сидела у брега и самое море, будто тянулось к ней. Чадра валялась позади, смятая и забытая, как кандалы, брошенные сбежавшим узником. А Кирго разлёгся поодаль и молча любовался тем, как пустынный пляж может расцвести в присутствии лишь одной красавицы.
И так хорошо сделалось на душе у юноши, что он незаметно начал напевать странную мелодию из детства, слова которой забыл; мычанье его, становящееся всё громче, напоминающее завывания пустыни, дошло до слуха Гайдэ.
– Что за напев? – произнесла она без усилия или вздоха, смотря в морскую даль.
– Не помню – придя в себя, отвечал Кирго, набирая песок в ладонь.
– Красивый.
– Мне его мама пела… или кухарка Милима… не знаю.
Гайдэ повернула голову к Кирго, ударил ветер и раскидал её кудри. – Спой ещё – попросила она, взглянув мягкими, будто любящими глазами.
И Кирго вновь стал мычать, как телёнок. Уже громче и яснее становился его голос; иногда мелодия напоминала звуки какого-то неизвестного языка, иногда почти слова обретались в ней – так занесённые песком замки или пирамиды обнажают часть своих линий, силуэтов, смутных очертаний, когда дует ветер и песок осыпается с их краёв. Но появляются лишь вершины зданий, а сами они остаются под непроглядным слоем времени.
Гайдэ встала на ноги и с её мокрых брюк полилась морская пена. Зеленоватые капли опадали на песок и застывали в нем, подобно воску, падающему со свечи. Они также как воск неуклюже ложились на поверхность, обволакивая её. Бёдра девы обрисовывала прилипшая от воды ткань, отчего каждый шаг, сделанный ею, становился тем прелестнее, будто буква, отписанная каллиграфическим подчерком. Дева начала танцевать, бегать из стороны в сторону, грациозно махая ногами и подбрасывая вверх песок с кончиков пальцев.
Кирго сидел молча, то тяжело отводил взгляд, то неустанно следил за пируэтами. Руки его поднялись к голове, он поднёс пальцы к бровям, провёл по ним, опустив на закрывшиеся глаза, потёр веки; и, открыв глаза, медленно, дрожащими зрачками посмотрел на Гайдэ, которая, казалось, и не замечала на себе его взора.
– Гайдэ, мне нужно кое-что тебе сказать – начал юноша, вставая на ноги и отряхивая от песка шаровары.
– Говори – просто ответила она, продолжая в танце рисовать узоры в воздухе.
Как радость делает человека прекрасным, как она заразительна и полна неги – так необходимость открыть себя, для иных людей, делается тяжким бременем, омрачающим их. Голос Кирго зазвенел, сам он скрючился под тяжестью скорого неизведанного будущего; под весом ещё несказанных слов. Все грёзы, продуманные им, разом упали на него, как холодный ливень падает на осенние долины, сбивая последнюю листву с голых деревьев. К тому же Гайдэ была к нему невнимательна, что усугубляло его неуверенность. Он, точно обижался на неё, за то, что она до сих пор не догадалась о его любви. «Какая слепая ты, Гайдэ!» – промыслил юноша.
Кирго начал издалека, по обыкновению первых в жизни объяснений. Затронул свою жизнь, с его слов пустую и жалкую; описал день её появления и их первый разговор. А окончил словами благодарности за дружбу. Она вдруг стала так нежна, так робка, смущённый взгляд её зениц скользил то по его плечу, то уходил в сторону моря любоваться горизонтом, то вновь возвращался полный ещё большей неги. Она, казалось, слушала внимательно, что он ей говорил, но когда Кирго обратился к ней с каким-то абстрактам вопросом, она смолчала, смешалась, и, быть может, хотела ответить на другой, главный вопрос, который всегда задают после абстрактных.
– Я знаю… – начал Кирго и зрачки его обрамила печаль, – Знаю! Ты не можешь любить такого как я; и всё равно говорю: я люблю тебя! Хоть тело моё искалечено, но душой… До тебя я был лишь тенью, подобной той, что бесцельно ложиться на пустыню. Сердце во мне не билось; не хотелось ни свободы, ни счастья… даже мечтать я разучился. Но ты… ты всё изменила! Теперь я снова мечтаю: о свободе, о родине, о тебе. Сначала я мечтал робко и невольно, но теперь уже не могу остановиться и делаюсь всё смелее в грёзах своих. Настолько, что и теперь, имею дерзость мечтать, будто ты ответишь мне… о твоей любви. Я глупец, я знаю – я глупец… но ты показала мне волю и теперь ярмо раба тяготит. Всё вокруг сковывает, душит… так отвратительно видеть эту клетку! Всё вздор, всё несбыточно, всё глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Слушай Гайдэ, мы можем… – тут он хотел заговорить о побеге, о родине и счастье, но решил, что сначала нужно дать высказаться ей.
В глазах её блистало странное любопытство. Она молча смотрела на него, не в силах пошевелиться. Затем резко молвила: – Да, ты прав, я не люблю тебя и не смогу полюбить… – и задумалась над чем-то, продолжая, – не знаю, отчего не люблю… ведь ты лучше всех мужчин, которых я видела. Но нет! Ты мне теперь родной человек, как брат… но не как мужчина…мы две души, которые соприкасаются, но не сливаются.
Задумчивость Гайдэ походила на взгляд в прошлое, каким смотрят люди, узнавшие обстоятельство, объясняющее многое в настоящем. Её слова глушил усилившийся шум волн. И робкие розовые лучи заката бродили кометами в её глазах, когда она, чтобы не смотреть на Кирго, поднимала взгляд к небу.
– Я понял, не продолжай… – закусил он губы.
– Чего ты? Мы ведь по-прежнему вместе в этой клетке. И знаешь, может ещё быть счастье.
– Правда…
– Ты добрый, скромный человек и я не хочу, чтобы ты грустил из-за меня, тем более из-за любви, поэтому давай забудем. Давай будем друзьями!
– Давай – голос юноши едва вздрогнул.
Он хотел сказать ещё что-то, но нет. Они посидели немного на берегу, вглядываясь в горизонт. Когда возвращались в город, закат пылал во всё небо. Шли быстрыми шагами, молчали; Кирго старался не смотреть в сторону Гайдэ. Несколько красных облаков зависло над Великой мечетью и площадью Медины. И евнух смотрел на них пристальным, но пустым взглядом.
Гайдэ твёрдо решила никому не рассказывать о признании Кирго. А уже вечером Гайнияр внимательно и молчаливо слушала её, только по временам охая и вздыхая.
Мусифе они решили ничего не рассказывать. «Она же такая лёгкая, как ветерок… ещё проболтается кому-нибудь… или самому Кирго напомнит» – условились девы. Однако иногда рядом с ней они всё-таки перекидывались туманными намёками и так многозначительно переглядывались, что она замечала и непременно пыталась расспросить. Нет для женщины ничего приятнее секрета двух подруг, утаенного от третьей.
А что до дружбы меж мужчиной и женщиной, так её нет. Кто-то всегда хочет большего или кокетничает, или боится остаться один.
13
Жизнь пошла дальше. Кирго не стал печалиться и по-прежнему проводил время с Гайдэ и её подругами. Она его отвергла, но странное дело, Кирго был счастлив. Она была рядом – того было довольно. А будущее… о нём Кирго не думал. Да и вообще, человек не может представить себе будущее, кроме как смутной мечтой, в которую не поверит, пока она не случится.
Если бы люди действительно могли представлять своё будущее, осознавать его силу и мощь… то они бы, наверное, совершали самоубийства от счастья, потому как видели бы, что вскоре оно пройдет; и хотели бы умереть счастливыми. Но будущность есть смутная сказка, которую трудно вообразить. От того, когда кто-то со всей уверенностью говорит о своем будущем, мы невольно восхищаемся им. Потому как сами не способны представить.
Так и Кирго, знай заранее об отказе Гайдэ, не предпочёл бы жить в неведенье и призрачной надежде, он бы просто не поверил этому и всё равно признался. Здесь что-то из области судьбы или мактуба.
Каждый следующий день походил на предыдущий и даже походы к Сеиду и ночи с ним, не вносили никакого разнообразия в скользкие одинаковые сутки. Поначалу Гайдэ страшно изнемогала и злилась, но потом привыкла к скуке гарема и стоически сносила её укусы. Скука подобна табачному дыму: неприученному человеку невыносима, а привыкшему сладка. Так и скука гарема делалась для его лиц зависимостью; если б вдруг сталось что-то интересное, было б славно, главное, чтобы интересное длилось не долго, иначе всех бы утомило. Ведь скука вещь накопляемая: чем дольше ты ей принадлежишь, тем более она впитывается в весь твой состав.
14
Как-то Кирго отсутствовал целый день и Гайдэ села во внутреннем дворе, где был накрыт стол с яствами и повсюду разложены подушки. Здесь были все. Асира сидела в жёлтом роскошном халате. Туго перетянутые ноги её лежали на подушке. Пояс в четыре пальца обвивает лилейный стан. Пояс, усеянный маленькими драгоценными камушками. Вкруг её кресла на подушках сидели девы декорации, как придворные фрейлин пред троном.
Жария иногда одевала энтири и была похожа на царицу. Энтири – это длинное платье, с рукавами до пола. Она ложилась на диван и раскладывала его многочисленные складки так, что они напоминали вершины величественных гор. Так было и сегодня. Мягко опиралась она на тоненькую ручку. Пальцы её терялись в светлых кудрях, которые в величественном беспорядке падали и на подушку, и на полуоткрытые груди.