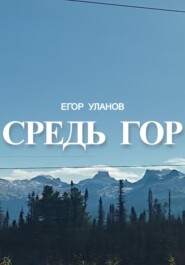По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тунисские напевы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наложницы седели во внутреннем дворе на множестве подушек и кресел. Звуки слов разлетались над ними, как щебетание птиц в роще, когда они словно поют вместе, а каждая о своём. Гайнияр, не найдя свою теперь лучшую подругу, пристроила полненькие прелести на подушках и болтала со всеми без разбора. Да, она предпочитала теперь говорить только с Гайдэ и смеяться над всеми прочими. Но ведь предпочтение иных людей заключается лишь в том, что с одними они говорят добродушно и много, а с другими точно также, но ещё и откровенно. Нет в таких людях отторжения; самую вульгарность готовы они принять с распростёртыми объятьями и беседовать с ней о том о сём. Люди это пустые, но в каком-то хорошем, приветливом смысле. От них никогда не услышишь о кровной вражде или ненависти; они способны являть их лишь в ответ, отражая, как зеркало. Иными словами, никто не замечал отсутствия Гайдэ, даже её лучшая подруга.
А тем временем молчание, установившееся меж юношей и девушкой, прервал старик Малей. Он неожиданно явился из прихожей комнаты.
– Что же ты, бездельник! – захрипел старший евнух; запах его чуть было не заставил завянуть цветы. – Глупое, ни на что не годное существо! Где ты был пол дня?
–На рынке и получал продукты для Милимы, – понизив голос против воли, говорил Кирго. В нём трепетало какое-то новое чувство: ему было совестно перед Гайдэ.
– Пускай старая карга сама ходит по своим делам, а ты…
– Вам что-нибудь угодно? – перебил Кирго, чего с ним не случалось, как бы Малей ни издевался над ним.
– Я… – заикнулся тот от неожиданности, и понял, что ему действительно за весь день ничего не понадобилось от юноши. Старые глазки забегали в пространстве, обнажая хромую мысль, ходившую в голове. – Тебя требовала госпожа! – Восторжествовал Малей, вспомнив о Гайдэ, только потому, что она стояла рядом, – а ты, ишачий сын, гнусный червь, проказа… не был рядом, чтобы помочь госпоже. Высечь бы тебя…
– Достаточно! – не выдержала Гайдэ. Глаза её сверкнули застывшей молнией. – Я бы не хотела слушать твои смердящие речи и видеть при том твои гнилые зубы! Убирайся.
Малей остановился. Казалось, он хочет что-то сказать, но это только казалось. Он ушёл. Ничего не случилось. Ни одна мысль не смутила его самолюбия. Это не та повесть, где хитрый старец плетёт интриги, подслушивает и подсматривает. Наш Малей был рабом от макушки до пят, и гордость его распространялась лишь на касту рабов, лишь среди них он важничал и кичился, а тех, кто был выше его, пусть даже немного, он почитал без задней мысли.
Но выше ли была Гайдэ? Она – эта заложница, раба? В глазах Малея, бесспорно. Пусть он мог ходить, где хотел. Куда ему было идти? Пусть он вёл дела гарема и имел неплохое жалование. На что ему деньги? Он не желал ни женщин, ни украшений, ни свободы. Чтобы делать зло, он был слишком глуп и труслив. Чтобы творить добро, он был слишком равнодушен. Чтобы учиться чему-то – стар. Он спит на жёсткой лаве, а наложницы делят ложе с господином! Они рядом с ним, пусть не долго, но равны ему… а Малей нет.
Простите, читатель. Быть может, вы думали, будто старый евнух и есть антагонист, в будущем поставленный противостоять герою – штрих, верно оживляющий любой пейзаж, даже самый незатейливый. Наверное, вы видели в этом развитие скучного нашего повествования. Но нет. Увы! Я бы и рад… да вот Малей отчего-то оказался не достоин своего чина. В том беда и нынешних чиновников: не в том, что все они евнухи, боже упаси, а в том, что каждый из них занимает несоразмерную должность.
Выход на сцену Малея произвёл оживляющий эффект. Гайдэ удивлённо смотрит на Кирго. – Чего же ты не отвечал? – вопрошает она.
– Он старый и глупый человек, поговорит и перестанет, – отвечал Кирго, – у него теперь и остались то, только разговоры.
– Может быть и так, но это не справедливо! – Гайдэ посмотрела ему прямо в глаза с чувством, которого не объяснил бы даже сам Бог.
– Не беспокойтесь. Малей верен господину и будет исполнять ваши желания, если они не противоречат господской воле. А то, как он обращается со мной дело давно решенное. Всё же он воспитывал меня с детства и всегда видит во мне непослушного мальчугана.
– Верно, детство. Я бы хотела узнать о твоём детстве. Ты расскажешь?
– Мне надо разобрать вещи в чулане. – Отнекивался Кирго, но справедливости ради, он действительно собирался перед этим убрать чулан.
– А я пойду с тобой и помогу… – не задумываясь, произнесла Гайдэ.
– Вам будет недосуг дышать пылью.
– Вот ерунда… я помогу, но ты расскажешь о детстве.
Юноша не мог отказаться. Через мгновение он уже очутился в тесном, но большом чулане (так с ними обыкновенно бывает; сделай чуланом хоть дворец Бардо в Тунисе, он через несколько лет наполнится хламом и станет тесным). И они с Гайдэ болтали о детстве. Он узнал названия нескольких греческих островов, послушал описание зелёных лугов, на коих пасутся знаменитые греческие овцы; живо представлялась маленькая девочка, бегающая по изумрудным травяным коврам, играющая в салочки или отдыхающая в тени раскидистого вереска; пусть Кирго и не видел вересков, но тень от них представить он мог свободно.
А затем Гайдэ пустилась в расспросы; жадно слушая истории о гареме, Милиме и господине. Но удивительно, что как ни старалась, она не находила ни одной глубокой личной, пусть даже не интересной истории.
– А что же твоё детство до похищения?
– Не помню, – сухо ответствовал юноша и продолжал рассказ.
Чулан был уже убран; вечер опоясал тьмой вуаль небосвода. Кирго предложил пойти «кое-куда». Он открыл дверь, они прошли по лестнице с неровными ступенями, и вышли на крышу над кухней. Здесь было некое подобие беседки с двумя лавочками, стоящими против друг друга, и лёгким навесом из ткани.
Разговор продолжался и неожиданно переходил от одного к другому, не вредя тем ни смыслу, ни темпу. Разговоры такие напоминают симфонии, а может и наоборот. Но если писатель выучится также непринуждённо передавать слова своих персонажей, с такой же силой и быстротой выражать мысль одним лишь предложением, то писатель этот наверняка откроет новое, доселе не виданное направление литературы.
Лёгкие последние лучи скользили в полутьме. По воздуху проносился ассонанс вечерней молитвы. Ветер слегка волновал ткань навеса.
– Смешной ваш Аллах, – заключала Гайдэ, – вы его даже не видели… у нас сначала Зевс был, потом Юпитер, а сейчас Иисус… я много богов знаю, и всех их видела, а на вашего и взглянуть нельзя – такой он строгий.
– А ваши боги, – с любопытством перебивал Кирго, – расскажи про них.
И она рассказала ему о Зевсе Эгидодержавце, об Афине Паладе, о Фебе сиятельном, об Афродите и многих других. А после и об Одиссее: о его странствиях.
– Я знаю одного мореплавателя, но он совсем не такой как этот Одиссей, разве что такой же хитрый.
– А куда же он плавает? – спрашивала Гайдэ.
– В Грецию… – отвечал он простодушно.
И на женском лице появлялась еле заметная бледность. Наверное, это полутьма опять неровно освещала всё вокруг. Но что за нужда видеть в человеке каждое чувство и непременно его угадывать? Что за дрянная привычка часовщика наблюдать каждое движение человека, будто он хронометр, который заказали к починке. Не имейте этой привычки, дорогой читатель! Иначе каждая минута счастья будет вам не более, чем ровно шестьдесят секунд.
На счастье, Кирго не заметил ненужных искажений света; разговор обыкновенно продолжался, а расставаясь, Гайдэ пожелала ему приятных снов. Они расставались друзьями.
Кирго тихо спустился на кухню; хотел уж идти осматривать двор, как сзади послышался скрипучий голос Милимы. – Где был? Я искала…
Евнух вздрогнул, точно его уличили в чём-то. – Я был с Гайдэ… с новой наложницей.
– Чего тебе в ней? – Проскрипела Милима, ожидая молчание или короткий неискренний ответ. Но Кирго повернулся и медленно заговорил, делая большие паузы, то ли для того, чтобы набрать воздуха, то ли для того, чтобы обдумать.
– Мне с ней интересно… будто она понимает во мне то, чего я сам не разберу. Она печалится, я хочу её утешить, а потом вижу, что и сам над тем же бьюсь.
– Чего бьешься? Чего печалишься? Ты человек уже знатный, всё у тебя есть.
– А всё же что-то не так.
– Я тебя не понимаю.
В своём сердце Милима смутно чувствовала какое-то волнение, будто нечто надвигалось. Но старое сердце быстро теряет ощущения; через секунду старушка забыла, о чём думала. Она подошла к Кирго, потрепала его по плечу, пожелала спокойной ночи и ушла спать. А наш герой отправился во двор; долго ходил он в темноте среди факелов, долго всматривался в каштановую темень, освященную мерцающим живым пламенем. Долго не хотел уходить. Но всё же прилёг у себя в коморке и быстро уснул.
Странный ему привиделся сон. Он видел детство, дом и улыбку матери; видел, как несущийся вихорь картин, идущих одна за другой. И вот он вылетел из вихря и оказался уже в плену, в чужой стране. Теперь он видит себя мальчиком, которого строго наказывают за непослушание, а потом продают. Вот уже тёмная комната, холодный пол, чей-то оценивающий взгляд; перед ним стоит сморщенный лекарь. Кирго не боится, он знает, что будет дальше.
Ужасная операция ослабила его силы и на несколько недель оставила его в полном расслаблении. Мальчик лежал в тесной коморке, и только кухарка Милима приходила иногда проведать его. Страдания тела имеют странное влияние на нашу душу и характер, следствия кои часто противоположны, и предсказать которых никак нельзя. И Кирго выучился мечтать. Он словно опытный змеелов приручил своё воображение. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, он начал искать их в самом себе. Сначала он мечтал о возвращении домой, о встрече с родными; потом его поглотили любые мечты о свободе.
И мальчик выздоровел. Встав на ноги, он часто покидал гарем и убегал к морю на пустынный пляж. Потом, когда его там нашли и наказали, он стал убегать в крепость Рибат, которая стояла поодаль от великой мечети Сусса. Кирго смутно видел, будто не своими глазами, как мальчик пробирается в крепость через дыру в толстой жёлтой стене. Видел, как мальчик выбегает на неправильную трапецию внутреннего двора. Всюду виднеются помещения для мурабитунов – монахов-воинов, раньше охранявших крепость, которых уже давно нет.
Мальчик из сна поднимался по каменным лестницам на десятиметровые стены, украшенные бойницами, проходил по площадке над воротами, залезал на выступ рядом с высокой башней и сидел там на самом краю. Так его не было видно снизу, а выше этих стен была только башня, под которой сидел мальчик. Весь город, который с каждой из сторон окружен коричневой стеной, будто старел и менялся во сне. Дома двухэтажные белые и серые покрывают землю, как узоры кроют ковёр. На севере за стеной порт, а далее нежно синее море. На воде покачиваются шлюпки. С севера на юг возвышенность и город, словно вырастает к горизонту. Там, где оканчиваются стены и начинается пустыня, в самой высокой точке на местности, виднеются маленькие домишки, похожие на сакли. И Кирго смотрит на всё это сквозь вечный туман времени. А рядом с ним сидит мальчик с грустными голубыми глазами. Он воображает себя персидским разбойником из сказки Милимы, среди зелёных джунглей, в шуме битвы; видит себя грозным мирабитуном в этой самой крепости или благородным рыцарем, вернувшимся в родной дом. И солнце золотит круглые купола крепости. И мальчик мечтает. Он ещё умеет это. Скоро рабская жизнь сделается ему привычна, и он будет равнодушно ходить мимо крепости каждый день.
Кирго проснулся и сам испугался громкого биения сердца своего, как пугаются сонные жители города при звуке ночного набата.
7
Прошло десять дней, как Гайдэ была в гареме. Её по-прежнему готовили к встрече с господином. Каждый день проходили занятия музыкой, танцами и стихами. Асира была требовательным и строгим учителем, а Гайдэ не очень способной ученицей. Арабские стихи ей не нравились. Струнный уд со своим коротким грифом и округлой формой неловко лежал у неё в руках.