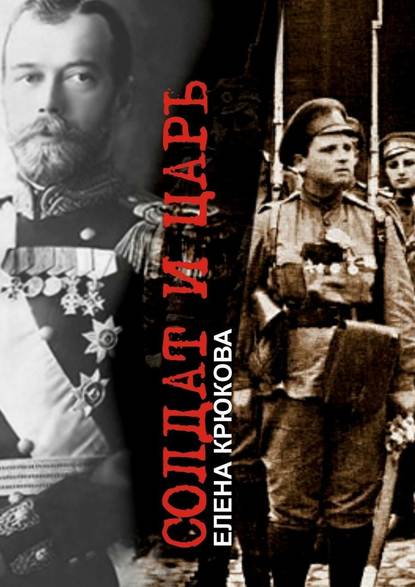По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солдат и Царь. Два тома в одной книге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Той ночью Гриха Бом – так он звал себя – выиграл много, еле рассовал змеино шуршащие деньги по карманам. В подворотне, уже под утро, на него напали. Он отбивался ретиво. Бил точно, умело, страшно. Пашка следила, как ходят гирьки-кулаки. Он уложил двоих, третий убежал. В синяках, в крови, вытирая ладонью лоб и щеки, он довольно усмехнулся:
– Не пришлось стрелять. Как я их.
Пашка молчала и смекала: стрелять, значит, оружие при себе.
Гриха вытащил из кармана пистолет и поиграл им перед носом Пашки.
– Видал миндал?
Стрельнул вверх. В ночи раскатился сухой и резкий звук. Погас в оклеенных игрушечным инеем ветвях.
Пашка протянула руку.
– Дай мне.
– Тебе?
Округлил глаза, но пистолет передал. Пашка подняла оружие, прищурилась.
– Видишь то гнездо? Левее?
– Вижу. Ха-ха!
«Смеешься, гад, как бы не заплакал».
Выстрелила. Черный клубок гнезда, осыпая иней, падал медленно, важно. Застрял в ветвях возле самой земли.
Гриха выхватил у женщины пистолет. Блестел зубами.
– Ишь, стрелялка! Наша? Своя?
– Не ваша. И ничья. С отцом охотилась.
Мужчина крепко взял женщину под локоть. Локоть к боку прижал.
– Охотница, однако. Нам такие нужны.
Пошел быстро, крупно шагая, и она не отставала.
…Гриха Бом грабил, играл и убивал. Жили в комнатенке, в каменном двухэтажном доме напротив Крестовоздвиженского храма. Приходили люди: русские, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечером, на ночь глядя, заявилось человек десять – все раскосые, потные, смуглые, с черными и рыжими тощенькими бороденками. Будто вехотки к подбородкам приклеены. Гриха раскосых рассадил, долго с ними не толковал; раз, два и все решено.
– Прасковья! Чаю нам. Нет! Лучше водки.
Пашка вытащила из буфета прозрачную, зеленого, как ангарский лед, стекла четверть. Разлила по стаканам прозрачную пьяную белую кровь.
– Закусить чем? Селедка есть, картошка холодная.
– Тащи, мать.
«Мать, мать, а детей нет».
Раскосые выпили, съели всю селедку и картошку, разломали в крошки остатки ситного. Ушли.
– Кто это?
– Хунхузы.
– На что они тебе?
– Не твоего ума дело.
Пашка взъярилась.
– Я с тобой живу, и не моего!
От крика надвое треснуло стекло закопченной, как свиной окорок, керосиновой лампы.
Гриха, тяжко качнувшись, вылез из-за стола. Пашку облапил.
– Люблю, когда орешь. Взыгрывает во мне все. Волчица! Не вопи, будто рожаешь. На дело с ними иду. Хунхузы, – замасленно улыбнулся и тоже вроде раскосый сам стал, – братья, маньчжуры. Надежные. Не подведут.
Пашка села на кровать, плакала и утиралась занавеской.
…Изловили их: и Гриху, и хунхузов. Они успели перебить – застрелить и зарезать – всех жителей купеческого дома на Крестовоздвиженской улице; да ограбить не успели – мимо тащилась старуха с ведром мороженых омулей, увидела огни в ночном доме, услышала истошные крики – и так, с ведром омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала к будке, где дремал городовой. Толстяк, оглушительно свистя, побежал к дому, шашка била ему по ногам; он вытащил из кобуры револьвер и стрелял в воздух. Старуха присела возле омулей и ошалело гладила мертвых рыб по головам, по выпученным глазам.
Мертвыми омулями по комнатам валялись тела – в кроватях, на полу. Семьи иркутского купца Горенко из двенадцати человек больше не было. На подмогу городовому уже ехали в авто урядники. Свист перебудил полгорода. Гриху и хунхузов поймали в дверях; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибом мощного колеса, застрелили во дворе. Отстреливались, да повязали быстро.
На суде изворотливому Грихе удалось доказать: зачинщики – хунхузы, он тут сбоку припеку. Хунхузов – кого к стенке, кого в тюрьму, кого на каторгу; а Гриху – всего лишь на поселение в Якутскую губернию.
…Пашка впервые тряслась в поезде. Оглядывалась беспомощной мышью по сторонам. Стены качались. В окне мимо глаз летели длинные мертвые омули стылых рельсов. К ее широкому, круглому и жесткому, как неспелое яблоко, плечу привалился Бом, дремал. Через бельмо грязного стекла виделись станции, полустанки, разъезды.
Поезд, лязгнув всеми железными костями, встал; они с Грихой пересели в широкие сани, лошадь потрясла заиндевелой мордой, тронула, за ними в кошеве ехал конвой. Платок с кистями, яркий, белый с крупными розами, плохо согревал: мороз лютовал, в черно-синих небесах злорадно играли сполохи, скрещивали световые клинки.
Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снег чугунок. Вошли, промерзшие, снег отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила с Грихи овчинный тулуп, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала к лицу и заревела в вонючий мех.
– Что мы тут делать будем!
– Ничего. Погибать.
Мужчина сел на лавку, Пашка встала на колени и стянула с него валенки.
Часы с боем, на кухонном столе в ряд скалки лежат. Теплый еще дух, недавно люди отсюда съехали. Пашка отыскала в шкафу мешочек с мукой. Развязала завязку. В муке, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь от отвращения, просеяла муку через сито, вытряхнула с крыльца личинки, замесила тесто на воде. Гриха языком нащупал во рту катышек, плюнул на пол.
Топили долго. Выстывшая изба прогревалась тяжко, доски трещали. Увалились в кровать, высокую, как вмерзшая в речной лед пристань. Дрожали. Прижимались крепко. Холодными граблями рук Гриха когтил Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнул холодной слюной ей в лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куриным пометом.
– Что плюешься-то. Заплевался.
– Принеси водки. Она в кармане тулупа.
– Не пришлось стрелять. Как я их.
Пашка молчала и смекала: стрелять, значит, оружие при себе.
Гриха вытащил из кармана пистолет и поиграл им перед носом Пашки.
– Видал миндал?
Стрельнул вверх. В ночи раскатился сухой и резкий звук. Погас в оклеенных игрушечным инеем ветвях.
Пашка протянула руку.
– Дай мне.
– Тебе?
Округлил глаза, но пистолет передал. Пашка подняла оружие, прищурилась.
– Видишь то гнездо? Левее?
– Вижу. Ха-ха!
«Смеешься, гад, как бы не заплакал».
Выстрелила. Черный клубок гнезда, осыпая иней, падал медленно, важно. Застрял в ветвях возле самой земли.
Гриха выхватил у женщины пистолет. Блестел зубами.
– Ишь, стрелялка! Наша? Своя?
– Не ваша. И ничья. С отцом охотилась.
Мужчина крепко взял женщину под локоть. Локоть к боку прижал.
– Охотница, однако. Нам такие нужны.
Пошел быстро, крупно шагая, и она не отставала.
…Гриха Бом грабил, играл и убивал. Жили в комнатенке, в каменном двухэтажном доме напротив Крестовоздвиженского храма. Приходили люди: русские, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечером, на ночь глядя, заявилось человек десять – все раскосые, потные, смуглые, с черными и рыжими тощенькими бороденками. Будто вехотки к подбородкам приклеены. Гриха раскосых рассадил, долго с ними не толковал; раз, два и все решено.
– Прасковья! Чаю нам. Нет! Лучше водки.
Пашка вытащила из буфета прозрачную, зеленого, как ангарский лед, стекла четверть. Разлила по стаканам прозрачную пьяную белую кровь.
– Закусить чем? Селедка есть, картошка холодная.
– Тащи, мать.
«Мать, мать, а детей нет».
Раскосые выпили, съели всю селедку и картошку, разломали в крошки остатки ситного. Ушли.
– Кто это?
– Хунхузы.
– На что они тебе?
– Не твоего ума дело.
Пашка взъярилась.
– Я с тобой живу, и не моего!
От крика надвое треснуло стекло закопченной, как свиной окорок, керосиновой лампы.
Гриха, тяжко качнувшись, вылез из-за стола. Пашку облапил.
– Люблю, когда орешь. Взыгрывает во мне все. Волчица! Не вопи, будто рожаешь. На дело с ними иду. Хунхузы, – замасленно улыбнулся и тоже вроде раскосый сам стал, – братья, маньчжуры. Надежные. Не подведут.
Пашка села на кровать, плакала и утиралась занавеской.
…Изловили их: и Гриху, и хунхузов. Они успели перебить – застрелить и зарезать – всех жителей купеческого дома на Крестовоздвиженской улице; да ограбить не успели – мимо тащилась старуха с ведром мороженых омулей, увидела огни в ночном доме, услышала истошные крики – и так, с ведром омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала к будке, где дремал городовой. Толстяк, оглушительно свистя, побежал к дому, шашка била ему по ногам; он вытащил из кобуры револьвер и стрелял в воздух. Старуха присела возле омулей и ошалело гладила мертвых рыб по головам, по выпученным глазам.
Мертвыми омулями по комнатам валялись тела – в кроватях, на полу. Семьи иркутского купца Горенко из двенадцати человек больше не было. На подмогу городовому уже ехали в авто урядники. Свист перебудил полгорода. Гриху и хунхузов поймали в дверях; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибом мощного колеса, застрелили во дворе. Отстреливались, да повязали быстро.
На суде изворотливому Грихе удалось доказать: зачинщики – хунхузы, он тут сбоку припеку. Хунхузов – кого к стенке, кого в тюрьму, кого на каторгу; а Гриху – всего лишь на поселение в Якутскую губернию.
…Пашка впервые тряслась в поезде. Оглядывалась беспомощной мышью по сторонам. Стены качались. В окне мимо глаз летели длинные мертвые омули стылых рельсов. К ее широкому, круглому и жесткому, как неспелое яблоко, плечу привалился Бом, дремал. Через бельмо грязного стекла виделись станции, полустанки, разъезды.
Поезд, лязгнув всеми железными костями, встал; они с Грихой пересели в широкие сани, лошадь потрясла заиндевелой мордой, тронула, за ними в кошеве ехал конвой. Платок с кистями, яркий, белый с крупными розами, плохо согревал: мороз лютовал, в черно-синих небесах злорадно играли сполохи, скрещивали световые клинки.
Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снег чугунок. Вошли, промерзшие, снег отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила с Грихи овчинный тулуп, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала к лицу и заревела в вонючий мех.
– Что мы тут делать будем!
– Ничего. Погибать.
Мужчина сел на лавку, Пашка встала на колени и стянула с него валенки.
Часы с боем, на кухонном столе в ряд скалки лежат. Теплый еще дух, недавно люди отсюда съехали. Пашка отыскала в шкафу мешочек с мукой. Развязала завязку. В муке, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь от отвращения, просеяла муку через сито, вытряхнула с крыльца личинки, замесила тесто на воде. Гриха языком нащупал во рту катышек, плюнул на пол.
Топили долго. Выстывшая изба прогревалась тяжко, доски трещали. Увалились в кровать, высокую, как вмерзшая в речной лед пристань. Дрожали. Прижимались крепко. Холодными граблями рук Гриха когтил Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнул холодной слюной ей в лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куриным пометом.
– Что плюешься-то. Заплевался.
– Принеси водки. Она в кармане тулупа.