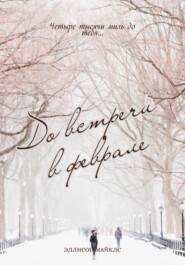По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музыка ветра
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я не сразу разобралась, был ли этот голос реален или ветер принёс чьё-то эхо к моим ногам. А потом увидела мужчину в футболке с короткими рукавами. Он стоял одной ногой в лодке, другой – на песке каменистого пляжа, в который перерастал скалистый обрыв. Я замерла на самом его краю и могла с высоты птичьего полёта, со всех ракурсов разглядеть обладателя того хрипловатого голоса, что всё ещё вибрировал в ушах. Мужчина скручивал рыболовную сеть, быстро и ловко разравнивал запутанное полотно кручёной нити в аккуратный пласт. Вода стекала с материи, струйками бежала по его предплечьям, как проступающие вены. При каждом движении надутые мышцы серебрились каплями пота от солнечных зайчиков.
С такой высоты было не разобрать ни роста, ни возраста, ни даже лица – тень от козырька кепки скрывала от меня всё самое интересное. Рыбак продолжал заниматься своими делами, будто даже не догадываясь, что я наблюдаю за ним. Наверняка только что вернулся из вылазки. Влажные доски его простой, самодельно сбитой лодки обсыхали на солнце. Нос упёрся в песочные наносы, а корма слегка трепыхалась на волнах, что омывали берег и доносили запах его улова. Рыба забилась о бортики десятилитрового контейнера, когда мужчина ухватился за ручку и выволок пойманных рыбёшек из лодки на камни и песок. Следом опустился чехол с удочками, ёмкость для прикормки, ящик для рыболовных принадлежностей и приманок и сумка-холодильник. Вещи, знакомые мне не понаслышке и забытые вместе с отцом где-то в прошлом.
Каждое движение задействовало сильные, подкаченные ежедневным трудом мышцы, от которых я не могла отвести глаз. Не каждый день выловишь такой экземпляр. Отчего-то мне хотелось смотреть и смотреть на незнакомца, но я спохватилась, пока он не понял, что я бессовестно пялюсь на его мускулы.
Чайки точно почуяли свежатину на берегу, ветер закружил их в своих завываниях, так что пришлось бы надрывать горло, чтобы перекричать этот шумный хор, если я хотела разузнать про отца. Пришлось отыскать не такой резкий спуск и сойти вниз. Влага от бурлящего океана оседала на каменистой отмели, так что я ступала особенно аккуратно, чтобы не поскользнуться и не сломать себе шею.
Ещё в нескольких метрах от рыбака я уловила запах, но не тот, что должен бы исходить от целого контейнера с рыбой. На удивление атомы воздуха не впитали в себя специфическую вонь, что исходит от любого улова. Что исходили от рубахи, пальцев и кошелька отца. Ничего, кроме соли, цитруса и пота, чьи еле уловимые нотки оседали пыльцой на внутренней стенке ноздрей.
– Морской окунь? – Спросила я спину рыбака, и тот даже не обернулся.
– Как догадались?
Пишу эти строки несколько часов спустя, и всё ещё передёргивает от хрипловатой сладости его голоса.
– В отличие от других рыб, морской окунь почти ничем не пахнет. – Я заметила в лодке ещё не собранный спиннинг, глубоководный воблер и остатки мяса креветки в пластиковой коробочке. – К тому же, с таким арсеналом только на окуня и ходить. Отец всегда говорил, что креветки для морского окуня, как…
– …мёд для мух. – Подхватил рыбак и наконец удостоил меня взглядом.
Обернувшись, он чуть приподнял кепку, и из-за козырька на меня выглянули тёмные, как поджаренный орех, глаза. Над правым тянулся шрам не больше царапины от кошачьих когтей, и при виде него, я тут же поправила чёлку, чтобы прикрыть свои отметины. Эти глаза изучали меня с любопытством, а может, и с удивлением. Мне даже показалось, что, если бы из пучины океана к нему вышла русалка, он бы не так сильно изумился.
– Так вы дочь Роя? – Спросил он и тут же позабыл о моём присутствии, стал вытаскивать лодку на берег и привязывать её толстым канатом к коряво вбитой в землю палке. Его влажная от брызг и испарины футболка облепила каждый сантиметр сбитых мышц, и мне понадобилось несколько вдохов, чтобы обрести дар речи.
– Вы знаете Роя Вествилла?
– Он меня всему научил.
– Как и меня.
– Что ж, это он умеет лучше всего.
– Учить? – Ляпнула я, за что получила кривую усмешку.
– Рыбачить. – Немного оскорбительно я восприняла его повышенный интерес к снастям, а не к дочери Роя Вествилла, которого, по всей видимости он очень даже хорошо знал. – Зря вы сюда приехали, дома Роя вы не дождётесь.
Уж слишком этот самоуверенный тип был осведомлён о жизни и местоположении моего отца. Гораздо более осведомлён, чем его собственная дочь. Ревность уколом шприца вонзилась куда-то под кожу и попала в самый нерв.
– И где же мне его искать?
– Сейчас он в океане. – Парень выпячил подбородок в сторону неспокойной глади с двигающимися точками почти у самого горизонта. Их с лёгкостью можно было бы принять за буйки, что кучкой и в то же время по отдельности ищут своё место в открытом океане. – А потом скорее всего отправится в свой любимый бар. Он пропадает там пару дней в неделю, как и все местные рыбаки. «На глубине». Это в центре.
Мне хотелось закричать наподобие чайки, что он ошибается. Мой отец никогда не пропадал в барах, а единственная капля, что он брал в рот – капля морской воды, случайно попадающая на его потрескавшиеся губы. Тот Рой Вествилл, что помогал мне насаживать юркого червя на крючок и съедал корочки с моих сэндвичей мог выпить бутылку пива в воскресенье, не более. Хотя, тот Рой Вествилл давно уже умер, канул в небытие, как вчерашний день.
Незнакомец навьючился всеми своими вещами, как мул перед паломничеством, и потопал куда-то вдоль берега. Сумка с наживками соскользнула с его плеча и шмякнулась на мелкие камни. Баночка с силиконовыми опарышами рассыпалась, и приманка, словно живая, разбежалась в разные стороны. Я присела и стала собирать резиновых червей, колебалки и воблеры под пристальным взглядом рыбака.
– Форель любит яркие цвета. – Как-то само собой вырвалось у меня, пока я запихивала всё это добро назад в сумку. – Чёрными виброхвостами вы их не приманите.
– А вы я смотрю, разбираетесь в рыбалке? Хотя, я ведь забыл, что вы дочь Роя.
– Софи.
Слишком уж резковато я выпалила своё имя, ровно как и протянула ему собранную сумку. «Дочь Роя»… Слетая с его губ, это выражение солью посыпало мои раны, ведь я давно уже перестала быть дочерью Роя. Как много он рассказывал этому типу обо мне? Как много мог рассказать, не зная, какой я стала за последние два десятилетия?
Рыбак долго смотрел на меня ореховыми глазами. Я думала, что он рассмеётся мне прямо в лицо, скажет что-то вроде «плевать мне на твоё имя», ведь всем своим видом он показывал, что ему плевать вообще на всех. Но пока его мышцы напрягались под тяжестью снастей, ни один мускул лица не дрогнул, когда он всё же не рассмеялся, а назвал своё имя.
Л.
***
Последняя запись, след которой обрывался на загадочном имени. Л. Это мог быть Лерой, Льюис или вообще какая-нибудь идиотская кличка, которыми обмениваются взрослые мужчины, застрявшие в возрасте ребячливых подростков. Хотя, судя по описанию этого самого Л., он не казался мне ребячливым или несерьёзным. Скорее, слишком уж суровым.
Сколько раз я перечитывала строчку за строчкой, вглядываясь в букву «Л» так пристально, что она растекалась кляксами. Всё пыталась заставить себя вспомнить ту встречу, образ папиного знакомого, нашу беседу на берегу, но приходили не воспоминания, а головные боли. Пару раз даже кровь шла носом – внизу страницы остался размазанный ореол красно-чёрного месива, там, где чернила ручки смешались с кровавым сгустком.
Кто же ты, Л.? Это была наша единственная встреча или мы видели друг друга снова? Нашла ли я отца в том баре, где проводят вечера все местные рыбаки? Впервые я пожалела, что даже столько лет спустя всё ещё осталась верна своей детской привычке – прятать имена людей за инициалами. Скрывать их всего за одной невзрачной буквой. Так было короче писать. Так я оберегала их и оберегала себя. Только имя отца и сестры полноценными словами появлялось в дневнике – скрывать их не от кого и незачем. И так понятно, кто есть кто, если я называла их «отец» и «сестра».
Первый дневник я завела в одиннадцать, через год после ухода отца. Я закрылась в себе, умалчивала о чувствах, что кипятили кровь, кололи кончики пальцев, румянили щёки от ярости и стыда. И тогда мама купила розовую миниатюрный блокнот с радугой и оптимистичной надписью на обложке и сказала, что теперь я могу делиться всеми своими переживаниями с ним. Я ещё не умела красиво писать, выводила слова с глупыми ошибками и неправильно расставляла запитые, но послушалась маминого совета и выливала эмоции на страницы.
Кровь переставала бурлить в венах, как только я закрывалась в ванной от мамы и сестры, с которой делила комнату, и открывала блокнот с радугой. Колкость в пальцах проходила, как только я бралась за ручку или карандаш. Щёки остывали и вновь обретали свой естественный оттенок, ведь злость и обида выплёскивались в дневник, как море извергает лишнюю воду на берег.
Слова, истории, диалоги громоздились друг на друга, пока не заполоняли собой все свободные места, а потом вместо розового появлялся голубой дневник, затем фиолетовый. Заметки, как и сами дневники взрослели вместе со мной. Я делилась с ними всем самым сокровенным, пока не пожалела об этом.
В третьем классе рыжая чертовка Бетти Тейт вытянула мой дневник из рюкзака и на всю столовую стала зачитывать сокровенные слова о том, как я сохну по Джеку Коллинзу из параллели. Вся школа, даже те, кто не знал меня в глаза, вытаращились из-за обеденных столов и своих пластмассовых подносов, а их смешки пробегали по всем моим косточкам, как малеты по брускам ксилофона. И пусть в ту минуту самого Джека Коллинза не было в столовой, нет ничего позорнее, чем когда во всеуслышание объявляют о твоих чувствах. Вытрясают наружу самое заветное, самое секретное, что ты держишь внутри, прячешь ото всех на стенках души или страницах толстой розовой тетради.
Такие вражеские подножки, пинки жизни либо толкают тебя в яму, либо учат находить лазейки, как выбраться наружу. Отец всегда говорил: если щука сорвалась, не скручивай удочки. Я не бросила записывать каждый свой день в дневник, ещё не зная, что однажды это спасёт меня от забвения. Но уже так просто, так опрометчиво не обращалась с сокровенным, личным и не предназначенным ни для кого другого. Любая Бетти Корнуэлл могла похитить мой дневник и зачитать его на весь Бостон, но никто бы не разобрался в героях моих повествований, ведь я больше не писала имена целиком, а оставляла лишь никому непонятные инициалы.
И теперь расплачивалась за это. Но не собиралась скручивать удочку, пусть щука никак не хотела попадаться на крючок.
Этот Л., кем бы он ни был, мог помочь мне найти не только отца, но и ответы, что случилось прошлым летом. Оставалось только найти его самого.
Бар «На глубине» затерялся на третьей береговой линии залива Нантакет Саунд. За невысокими домишками виднелись флаги порта, мачты пришвартованных к паромному причалу яхт, забортный трап, ведущий к отплывающему по Атлантике круизному лайнеру и пухлобокая крыша старого маяка. Лайнер дважды оповестил город об отплытии протяжным гудком, от которого птицы взметнулись ввысь. Эхо мурашками пробежало по улицам Нантакета и забралось куда-то за шиворот.
Каждый шаг на этом острове беспамятства давался мне с трудом. Подъехав к бару, о котором говорил безымянный рыбак, я заглушила двигатель и ещё некоторое время оценивала обстановку. Деревянная вывеска с рыбацкой лодкой, «е» выпадает из названия в виде заброшенного в воду поплавка. Потрёпанный фасад выбивался из каравана опрятных домиков с лавками на первых этажах и жилыми квартирками наверху. Именно так и должно выглядеть место, где собираются непритязательные и простоватые рыбаки, привыкшие к диким условиям.
В Бостоне уже к четырём солнце прячется за зеркальные высотки, приближая сумерки ближе на несколько часов. Закаты там наблюдают лишь везунчики, которым посчастливилось купить квартиру на последнем этаже или выбраться по пробкам из города в гавань. Но Нантакет словно принимал солнечные ванны и нежился в оранжевых всплесках заката, как в джакузи. Небо переливалось всеми оттенками красного. Самое время, чтобы вернуться из дальнего плаванья и смочить горло в месте, вроде этого. Если где-то и искать отца, то в баре «На глубине». Надеюсь, этот Л. не ошибался. Если я была здесь год назад, то должна вспомнить хоть что-то.
Толкнув деревянную дверь, я вошла в тёмное помещение. Столики утопали в тусклом освещении ламп и неоновой подсветке. Спартанская обстановка и тихая музыка из автомата в углу влекли сюда своеобразный контингент. Мужчины в рабочих робах и мятых рубахах летели сюда, как мотыльки на свет лампочки. Они собирались в стайки, как косяки сельди, и потягивали кто пиво, кто дешёвый виски. Дощатый пол пропах пролитыми лужицами спиртного и океанской тиной, что натаптывали тяжёлые сапоги любителей порыбачить, а после выпить.
Моё вторжение привлекло всеобщее внимание – женщины здесь явно были на вес золота и редко заглядывали на огонёк. Мне удалось разглядеть лишь троих – они не отставали от мужчин ни в питейных игрищах, ни в едком амбре.
Когда глаза привыкли к сумрачной дымке, я проложила траекторию к барной стойке, за которой в гордом одиночестве сидел какой-то заросший пьянчуга и гасил все свои горести на дне полупустого стакана. Его телеса опасно свешивались по обе стороны высокого барного стула, а нос клевал о стойку, хотя часы не пробили даже шести вечера. Но даже в пьяной полудрёме он умудрялся крепко держаться за стакан грязными пальцами с чёрными дугами ногтей.
Я предусмотрительно обогнула подпитую «Пизанскую башню» и обратилась к бармену.
– Извините, вы не могли бы мне помочь?
Тот даже не поднял головы, продолжая смешивать какой-то подозрительного вида коктейль. Давно за сорок, с безобразно отросшей бородой и татуировкой-якорем на оголённом предплечье, он явно нашёл своё место в жизни среди грубоватых работяг и горячительных напитков.
– Вам что-то налить? – Бросил он.