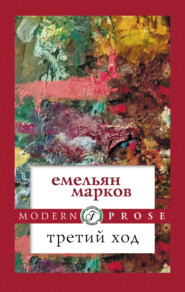По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волки купаются в Волге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну вот. Я в короткий подол сарафана наложила винограду, сколько могла унести, и, сидя на корточках, свистнула в четыре пальца. Залаяла собака, раздался выстрел, сторожа нас заметили, мы побежали. А обратную сторону мы опять уворачивались от лучей прожекторов, падали на землю, но уже на спину, чтоб не разбить виноград, ребята набрали его под рубашки. Было звездное небо, пригоршни звезды рассыпало во небу, как ветром. В пределах пансионата я оглядела темные и, как показалось, смущенные силуэты моих приятелей, строго спросила: «Все живы, никого не задела пуля?» – «Все…» – ответили они скорбно. Я хотела провести перекличку, но мне вдруг страшно надоели они все, я побежала в наш номер. Там я свалила виноград в таз, рухнула на кровать, мгновенно заснула. На следующий день я проснулась поздно. Когда выглянула из-под одеяла, папа сидел, прямой как струна, на своей кровати и перематывал изолентой рукоятку спиннинга. «Сегодня я плавал за буйки один», – посетовал он. Я мутно посмотрела мимо него, спрыгнула с койки прямо к тазу с виноградом. «А это ты пробовал!» – спросила я и вцепилась зубами в гроздь… И что бы ты думал? Виноград оказался несъедобным! Кислым до горечи, жестким, сразу дал мучительную оскомину. А папа таил смех. «Кисловат?» – спросил он. «Не поверишь, – взмолилась я, – ночью он был божественно сладким! Божественно, папа…». «Я тебе верю, доченька», – сказал папа так, как будто он незримо ходил на виноградники с нами. Наверно, пажи мои сразу распробовали виноград, тому и были смущены.
Панченко ел сладкую дыню, слушая Варю краем уха.
– Любимый! Почему ты так переменился ко мне? – спросила она торжественно.
Панченко подозрительно и немного ошарашено глянул ей в лицо, но в подошедших сумерках не понял его выражения. Сумерки обступили береговые холмы, подкрасили румянцем дремучий лес Карадага. Море будто окаменело, стало полудрагоценным и розовым, в полудрагоценных камнях есть особенная прелесть, в них не отражена алчность и суета сего мира.
Они продавались здесь же, на набережной. Панченко подошел к лотку, тронул какой-то камень. Продавец, горбоносый старик в белой панаме, не глядя, ударил его, как ребенка, по руке и крикнул поверх толпы: «Руками не трогать!..». Море потемнело, провалилось, а камни старика всё горят тихими цветами, привлекают разгоряченную потонувшим солнцем публику. На набережной поют под гитару юноши с тесемками вкруг головы, как у Панченко; художники торгуют картинами, на которых тот же Коктебель; цикады проснулись в незнакомых даже дотошному Прохору Николаевичу кромешных травах. Выйдешь на окраину поселка, засмеешься своей ли шутке, шутке ли своего хитроумного спутника или прекрасной спутницы, – смех тонет в матовой темноте и вдруг где-то неподалеку отражается, медлит и возвращается всплеском, стрекотом, сухоголосьем.
Наступила осень. Варя вызвала Панченко для починки замка входной двери. Филька привел девку, а ключи забыл. Сначала хотел на бельевой веревке спуститься с девятого этажа на восьмой, но не сговорился с соседями и просто выбил дверь.
Панченко починил замок, и Варя пошла пройтись с ним по Зюзинскому лесу. По обочинам тротуара светлела желтая листва рябин, воспаленных зрелыми киноваровыми кистями.
– Я не люблю тебя, – говорит Панченко, – воруй на своем базаре. Был у тебя шанс на мягком диване.
Варе скучно, и легко дышится.
– Конечно, – говорит она, – если бы ты меня любил, достал бы мне во-он ту рябиновую кисть.
Панченко молча ищет сук. Оскалившись от напряжения, подтягивает им, нагибает ветку… Варя подносит гроздь к бледным пухлым губам, рябиновый запах легко толкает в голову. Панченко смотрит на нее с недоумением, Варя не замечает этого. Что-что, а это недоумение Панченко так и не сумел превозмочь.
На дворе ноябрь. Прошел месяц, как Панченко вернулся в семью. За месяц он успел надоесть своей жене молчанием и неудачными шутками. Первый снег почему-то произвел на Панченко впечатление. Как ребенок, он сидел на кровати до обеда и прислушивался к тишине. После ужина Виктория Даниловна отвезла мужа к психиатру.
– Что вас беспокоит? – спросил врач с ясными и на особинку уставшими глазами.
– Я полюбил женщину моложе себя на двадцать лет, – ответил Прохор.
– Слушайте… – врач заглянул в пустую историю болезни, – Прохор Николаевич. Возьмите себя в руки.
Врач с нарочитой строгостью опять посмотрел на Панченко, тот был безумен.
* * *
Прошло время. Варвару Посошкову по жалобе Панченко сократили из издательства. Странной была эта жалоба, невнятной. Впрочем, Панченко письменно выражал свои мысли всегда как сумасшедший, потому что сочетание пера и бумаги вызывало у него слезы. В быту же он, крепкий старик, оправился от душевного недуга, затеял строить баньку. Варя же, праздная, одинокая, в любое время могла петь уже совершенно взрослому сыну, когда того одолевало уныние, старую колыбельную.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Филя теперь не останавливал пугливо мать, но и, конечно, не думал спать. Мать уснет, он всю ночь будет сидеть на кухне, жалея о прошедшем дне. Он начинал ценить день только ближе к полночи, смотреть через плечо, томиться, хлопотать о нем. И, похоже, не зря он так просиживал по ночам, похоже, удавалось все-таки оставить за собой полюбившийся день; иначе – почему он так покойно и сладко засыпал под утро, засыпал с чувством исполненного долга?
Волки купаются в Волге
(рассказ)
Ветки по-матерински склоняются над крышей избы. Воздух после жаркого дня густой. Кто-то ходит по чердаку, горбыль скрипит от медленной поступи. Этот кто-то много гуще воздуха. Он сгубит одним своим видом. Бродит туда-сюда по чердаку, наверное, думает спуститься. Кроме Алеши, белобрысого мальчика с бледным вострым лицом, внизу все спят. Спит никогда на встающий, весь почерневший и одичавший от внутренней, глубоко скрытой в нем болезни дедушка; он иногда вскрикивает от боли, глухо и коротко, как с размаху хлопающая дверь, но сейчас он спит крепко и видит сны, о которых никому не рассказывает. Раз дедушка вышел незамеченный на улицу. Алеша играл тогда в песок рядом с калиткой. Дедушка сел на лавочку и время строго наблюдал, как внук играет. Но вскоре дедушка сильно пропотел, от него крепко пахнуло бархатцами. Вместе с потом словно отошли последние силы. Дедушка запрокинул голову, издал странный призывный звук. Выбежала бабушка и увела дедушку. От калитки до крыльца он вздымал подбородок и норовил упасть назад. Походкой он напоминал возмущенного индюка, а не человека, так ему было плохо. Бабушка тоже спит. Бабушка редко выпьет рюмку вместе со всеми, если торжество, – и в ней столько радости от одной маленькой рюмки, лицо ее красно озаряется, маленькие голубые глаза матевеют, как картофельные цветочки в прохладе ботвы. Вдруг радость ее превращается в суровость, и надо видеть, с каким суровым вдохновением она в огромном белом платке, завязанном крупно на затылке, и хворостиной в руке стремительно переваливается с ноги на ногу за коровой. Корова гулко мычит, оглашая чужие дворы и туманную опушку леса. И бабушка, и по привычке дедушка спят на спине, так спят трудолюбые люди. Они как бы умирают на время, умирают с легкостью. А утром воскресают уже за работой.
Алеша насморочно сопит. Сегодня он увязался за ребятами, звеня, хохоча и замирая сердцем, поехал велосипеды мыть на Волгу. Старшие курили, мудро смотрели на воду, насмешливо – на Алешу и другую стучащую зубами от долгого купания угодливую и восторженную мелкоту, плевались, играли в замасленные азартом карты. Постепенно Алеша свыкается с шагами домового, сон властно подступает к горлу, смыкает глаза. Может, не сон, а домовой спустился и дышит в лицо? Вскрикнул дедушка. Нет, не дедушка, дверь хлопнула. Тенью вошла мать. Она задергивает занавеску, – бабушки и дедушки не стало в комнате, – чиркает спичкой, разжигает керосиновую лампу, поправляет фитиль, чтобы не коптило и чтобы не тревожить сон ребенка. На ней облегающее укороченное платье в крупный цветок, под подбородком небольшой холеный жирок, как у карточной дамы. Зеркальце на столе черно, отражает темноту. Мать склонилась к нему и вынимает серьги.
…Этот Гена из клуба, киномеханик в очках с толстыми стеклами, на что-то надеялся, приглаживал свои редкие серые кудряшки, пил мрачно и решительно, но не выдержал и прямо в очках упал под стол. Как не тормошила она его носком босоножки, он не очнулся. Зачем, спрашивается, звал? Зачем называл ее Натали? Зачем улыбался стальной мутной коронкой в углу рта, обрывками фраз нахваливал ее бедра и ее глаза? То ли дело Лешкин отец, вольные человек, чего только одни рыжие баки его стоят! Бывало, обхватишь обеими руками его загривок, повиснешь, так что пальцы сами собой слабеют, а он только лыбится, белобрысый черт. И не было ему никогда покоя, даже ночью: встанет и ходит, ходит, скрипит половицами, белая майка плавает в темноте. Где он теперь? Ищи-свищи.
Наталья впрямь решила свистнуть. Как научил Лешкин отец. Заложила пальцы в рот, но вспомнила о сыне, – о родителях Наталья сейчас не думала, – вытерла губы тыльной стороной руки. Геннадия тоже, конечно, жалко, она бы и пожалела его, если бы он не свалился. А то что же? Проходу мужику не дают, смеются. Зайдет в магазин, смеются, выйдет из магазина, громче смеются, рыбачить пойдет, и то рыбаки посмеиваются. А над чем тут смаяться? Слишком серьезный, сосредоточенный, вот и смеются. Но как же не быть ему серьезным? Ведь, если улыбнется только, как ей сегодня, скукожит вечно небритые щеки, глянет лукаво, так ему морду бить начинают. И хоть не часто бьют, больше смеются, все равно сердце саднит, глядючи, как Гена капает кровью с лица и очки на земле ищет. Лишь в безлюдных местах, когда идет он по дороге своей странной, словно на каждом шаге ступает с обрыва, походкой, он, не остерегаясь злого человека, улыбается сам с собой и с бессмысленной радостью смотрит на тусклый дорожный песок. Дурачок, конечно, но зато все фильмы наизусть знает.
В окно постучали, Наталья открыла створку. Под окном топтался, пускал табачный дым через плечо Сашка. Сегодня он пилил дрова бензопилой возле своего забора, а теперь стоял под чужим окном. Сашка опасный мужик, черный, синеглазый, с волосатыми руками. Он сидел за убийство.
– Тебе чего? – спросила Наталья.
– Идем купаться, – злобно сказал Сашка.
– Ты чего, сдурел?
– Идем, говорю. – Сашка усмехнулся, сверкнул глазами.
– Да какое сейчас купание?
– Нормально, – отвернулся Сашка, – идем. Сейчас, это, кувшинки цветут. Красота!
– Ночью на реке прохладно, и комарье. У меня нежная кожа… – незаметно для себя вовлеклась в разговор Наталья.
Сашка хохотнул. От его смеха Наталья вздрогнула. Смех влек к себе и в то же время был неприятен, словно Сашка чужой, из другого поселка, из другого мира.
– Ладно, уговорил, черт. Сейчас выйду.
Наталья набросила на плечи большой материн платок, прикрутила лампу, наклонилась к Алеше.
– Волки купаются в Волге, – тревожно пробормотал сын, хотел сесть во сне, но мать удержала его.
– Какие волки, ты что, сынок? – она припала на одно колено.
Алеша спал. Мать прижалась к нему, потом поправила одеяло, подошла к окну.
– Эй ты, слышишь? Уходи отсюда!
– Ты что, Наташка! Играть со мной вздумала? – люто прошептал Сашка.
– Пошел, говорят тебе!
– Пошел, говоришь? Да я ведь жизнь свою хотел тебе рассказать…
– Знаю я твою жизнь.
– Что ты знаешь? – медленно спросил Сашка.
Наталье показалось: не в окно она вглядывается, а в колодец. Сашка коротко осмотрелся по сторонам и сказал:
Панченко ел сладкую дыню, слушая Варю краем уха.
– Любимый! Почему ты так переменился ко мне? – спросила она торжественно.
Панченко подозрительно и немного ошарашено глянул ей в лицо, но в подошедших сумерках не понял его выражения. Сумерки обступили береговые холмы, подкрасили румянцем дремучий лес Карадага. Море будто окаменело, стало полудрагоценным и розовым, в полудрагоценных камнях есть особенная прелесть, в них не отражена алчность и суета сего мира.
Они продавались здесь же, на набережной. Панченко подошел к лотку, тронул какой-то камень. Продавец, горбоносый старик в белой панаме, не глядя, ударил его, как ребенка, по руке и крикнул поверх толпы: «Руками не трогать!..». Море потемнело, провалилось, а камни старика всё горят тихими цветами, привлекают разгоряченную потонувшим солнцем публику. На набережной поют под гитару юноши с тесемками вкруг головы, как у Панченко; художники торгуют картинами, на которых тот же Коктебель; цикады проснулись в незнакомых даже дотошному Прохору Николаевичу кромешных травах. Выйдешь на окраину поселка, засмеешься своей ли шутке, шутке ли своего хитроумного спутника или прекрасной спутницы, – смех тонет в матовой темноте и вдруг где-то неподалеку отражается, медлит и возвращается всплеском, стрекотом, сухоголосьем.
Наступила осень. Варя вызвала Панченко для починки замка входной двери. Филька привел девку, а ключи забыл. Сначала хотел на бельевой веревке спуститься с девятого этажа на восьмой, но не сговорился с соседями и просто выбил дверь.
Панченко починил замок, и Варя пошла пройтись с ним по Зюзинскому лесу. По обочинам тротуара светлела желтая листва рябин, воспаленных зрелыми киноваровыми кистями.
– Я не люблю тебя, – говорит Панченко, – воруй на своем базаре. Был у тебя шанс на мягком диване.
Варе скучно, и легко дышится.
– Конечно, – говорит она, – если бы ты меня любил, достал бы мне во-он ту рябиновую кисть.
Панченко молча ищет сук. Оскалившись от напряжения, подтягивает им, нагибает ветку… Варя подносит гроздь к бледным пухлым губам, рябиновый запах легко толкает в голову. Панченко смотрит на нее с недоумением, Варя не замечает этого. Что-что, а это недоумение Панченко так и не сумел превозмочь.
На дворе ноябрь. Прошел месяц, как Панченко вернулся в семью. За месяц он успел надоесть своей жене молчанием и неудачными шутками. Первый снег почему-то произвел на Панченко впечатление. Как ребенок, он сидел на кровати до обеда и прислушивался к тишине. После ужина Виктория Даниловна отвезла мужа к психиатру.
– Что вас беспокоит? – спросил врач с ясными и на особинку уставшими глазами.
– Я полюбил женщину моложе себя на двадцать лет, – ответил Прохор.
– Слушайте… – врач заглянул в пустую историю болезни, – Прохор Николаевич. Возьмите себя в руки.
Врач с нарочитой строгостью опять посмотрел на Панченко, тот был безумен.
* * *
Прошло время. Варвару Посошкову по жалобе Панченко сократили из издательства. Странной была эта жалоба, невнятной. Впрочем, Панченко письменно выражал свои мысли всегда как сумасшедший, потому что сочетание пера и бумаги вызывало у него слезы. В быту же он, крепкий старик, оправился от душевного недуга, затеял строить баньку. Варя же, праздная, одинокая, в любое время могла петь уже совершенно взрослому сыну, когда того одолевало уныние, старую колыбельную.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою…
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Филя теперь не останавливал пугливо мать, но и, конечно, не думал спать. Мать уснет, он всю ночь будет сидеть на кухне, жалея о прошедшем дне. Он начинал ценить день только ближе к полночи, смотреть через плечо, томиться, хлопотать о нем. И, похоже, не зря он так просиживал по ночам, похоже, удавалось все-таки оставить за собой полюбившийся день; иначе – почему он так покойно и сладко засыпал под утро, засыпал с чувством исполненного долга?
Волки купаются в Волге
(рассказ)
Ветки по-матерински склоняются над крышей избы. Воздух после жаркого дня густой. Кто-то ходит по чердаку, горбыль скрипит от медленной поступи. Этот кто-то много гуще воздуха. Он сгубит одним своим видом. Бродит туда-сюда по чердаку, наверное, думает спуститься. Кроме Алеши, белобрысого мальчика с бледным вострым лицом, внизу все спят. Спит никогда на встающий, весь почерневший и одичавший от внутренней, глубоко скрытой в нем болезни дедушка; он иногда вскрикивает от боли, глухо и коротко, как с размаху хлопающая дверь, но сейчас он спит крепко и видит сны, о которых никому не рассказывает. Раз дедушка вышел незамеченный на улицу. Алеша играл тогда в песок рядом с калиткой. Дедушка сел на лавочку и время строго наблюдал, как внук играет. Но вскоре дедушка сильно пропотел, от него крепко пахнуло бархатцами. Вместе с потом словно отошли последние силы. Дедушка запрокинул голову, издал странный призывный звук. Выбежала бабушка и увела дедушку. От калитки до крыльца он вздымал подбородок и норовил упасть назад. Походкой он напоминал возмущенного индюка, а не человека, так ему было плохо. Бабушка тоже спит. Бабушка редко выпьет рюмку вместе со всеми, если торжество, – и в ней столько радости от одной маленькой рюмки, лицо ее красно озаряется, маленькие голубые глаза матевеют, как картофельные цветочки в прохладе ботвы. Вдруг радость ее превращается в суровость, и надо видеть, с каким суровым вдохновением она в огромном белом платке, завязанном крупно на затылке, и хворостиной в руке стремительно переваливается с ноги на ногу за коровой. Корова гулко мычит, оглашая чужие дворы и туманную опушку леса. И бабушка, и по привычке дедушка спят на спине, так спят трудолюбые люди. Они как бы умирают на время, умирают с легкостью. А утром воскресают уже за работой.
Алеша насморочно сопит. Сегодня он увязался за ребятами, звеня, хохоча и замирая сердцем, поехал велосипеды мыть на Волгу. Старшие курили, мудро смотрели на воду, насмешливо – на Алешу и другую стучащую зубами от долгого купания угодливую и восторженную мелкоту, плевались, играли в замасленные азартом карты. Постепенно Алеша свыкается с шагами домового, сон властно подступает к горлу, смыкает глаза. Может, не сон, а домовой спустился и дышит в лицо? Вскрикнул дедушка. Нет, не дедушка, дверь хлопнула. Тенью вошла мать. Она задергивает занавеску, – бабушки и дедушки не стало в комнате, – чиркает спичкой, разжигает керосиновую лампу, поправляет фитиль, чтобы не коптило и чтобы не тревожить сон ребенка. На ней облегающее укороченное платье в крупный цветок, под подбородком небольшой холеный жирок, как у карточной дамы. Зеркальце на столе черно, отражает темноту. Мать склонилась к нему и вынимает серьги.
…Этот Гена из клуба, киномеханик в очках с толстыми стеклами, на что-то надеялся, приглаживал свои редкие серые кудряшки, пил мрачно и решительно, но не выдержал и прямо в очках упал под стол. Как не тормошила она его носком босоножки, он не очнулся. Зачем, спрашивается, звал? Зачем называл ее Натали? Зачем улыбался стальной мутной коронкой в углу рта, обрывками фраз нахваливал ее бедра и ее глаза? То ли дело Лешкин отец, вольные человек, чего только одни рыжие баки его стоят! Бывало, обхватишь обеими руками его загривок, повиснешь, так что пальцы сами собой слабеют, а он только лыбится, белобрысый черт. И не было ему никогда покоя, даже ночью: встанет и ходит, ходит, скрипит половицами, белая майка плавает в темноте. Где он теперь? Ищи-свищи.
Наталья впрямь решила свистнуть. Как научил Лешкин отец. Заложила пальцы в рот, но вспомнила о сыне, – о родителях Наталья сейчас не думала, – вытерла губы тыльной стороной руки. Геннадия тоже, конечно, жалко, она бы и пожалела его, если бы он не свалился. А то что же? Проходу мужику не дают, смеются. Зайдет в магазин, смеются, выйдет из магазина, громче смеются, рыбачить пойдет, и то рыбаки посмеиваются. А над чем тут смаяться? Слишком серьезный, сосредоточенный, вот и смеются. Но как же не быть ему серьезным? Ведь, если улыбнется только, как ей сегодня, скукожит вечно небритые щеки, глянет лукаво, так ему морду бить начинают. И хоть не часто бьют, больше смеются, все равно сердце саднит, глядючи, как Гена капает кровью с лица и очки на земле ищет. Лишь в безлюдных местах, когда идет он по дороге своей странной, словно на каждом шаге ступает с обрыва, походкой, он, не остерегаясь злого человека, улыбается сам с собой и с бессмысленной радостью смотрит на тусклый дорожный песок. Дурачок, конечно, но зато все фильмы наизусть знает.
В окно постучали, Наталья открыла створку. Под окном топтался, пускал табачный дым через плечо Сашка. Сегодня он пилил дрова бензопилой возле своего забора, а теперь стоял под чужим окном. Сашка опасный мужик, черный, синеглазый, с волосатыми руками. Он сидел за убийство.
– Тебе чего? – спросила Наталья.
– Идем купаться, – злобно сказал Сашка.
– Ты чего, сдурел?
– Идем, говорю. – Сашка усмехнулся, сверкнул глазами.
– Да какое сейчас купание?
– Нормально, – отвернулся Сашка, – идем. Сейчас, это, кувшинки цветут. Красота!
– Ночью на реке прохладно, и комарье. У меня нежная кожа… – незаметно для себя вовлеклась в разговор Наталья.
Сашка хохотнул. От его смеха Наталья вздрогнула. Смех влек к себе и в то же время был неприятен, словно Сашка чужой, из другого поселка, из другого мира.
– Ладно, уговорил, черт. Сейчас выйду.
Наталья набросила на плечи большой материн платок, прикрутила лампу, наклонилась к Алеше.
– Волки купаются в Волге, – тревожно пробормотал сын, хотел сесть во сне, но мать удержала его.
– Какие волки, ты что, сынок? – она припала на одно колено.
Алеша спал. Мать прижалась к нему, потом поправила одеяло, подошла к окну.
– Эй ты, слышишь? Уходи отсюда!
– Ты что, Наташка! Играть со мной вздумала? – люто прошептал Сашка.
– Пошел, говорят тебе!
– Пошел, говоришь? Да я ведь жизнь свою хотел тебе рассказать…
– Знаю я твою жизнь.
– Что ты знаешь? – медленно спросил Сашка.
Наталье показалось: не в окно она вглядывается, а в колодец. Сашка коротко осмотрелся по сторонам и сказал: