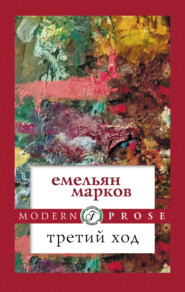По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Волки купаются в Волге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– За компанию, – пояснил Панченко.
Они вернулись на кухню, выпили мировую. В Варе совершенно не было обиды, и это слегка тревожило Панченко.
– Закусывайте, Прохор Николаевич, вот у меня тут сыр имеется, – с назойливым радушием предлагала Ольга.
– После первого брака не закусываю, – отвечал Панченко.
Выпив, он со своей доверительной трескучей хрипотцой рассказал, обращаясь единственно к Сватской, стихотворение Бунина «Я простая девка на баштане». Варя разула одну ногу, положила ее Прохору на колени, у нее была маленькая, но широкая ступня с коротенькими пальчиками. Приказала: «Целуй!». Панченко с суровой покорностью дворецкого приник к ноге.
В начале одиннадцатого Панченко и Варя собрались уходить, затопали в прихожей. Ольга, вскинув хмельную голову, оглядела их: завистливо и печально Варины русые, выгоревшие за лето волосы; осмелев, седую голову Панченко, его заиндевелую от прочного хмеля бороду, которую он отпускал, поспевая к зиме, и озорно сказала:
– Как вы ладно смотритесь, ребята! Золото и серебро!
Панченко и Варя, хохоча, отшучиваясь, ушли.
Вернулась с улицы дочка Злата, полная голубоглазая девочка. Ольга зеленкой помазала ей разбитые коленки, расплела бедные короткие косички, отправила спать.
Вадя Сватский, приземистый пожилой атлет с седым ежиком на голове, приехал домой внезапно, в двенадцатом часу. На внешней стороне кисти, в том месте, где, если обзаводятся наколкой, обыкновенно пишут свое имя или инициалы, у Вади было начертано: Ding an sich, в переводе с немецкого: «Вещь в себе» – понятие Иммануила Канта. Последний год Вадя редко появлялся в своей городской квартире, строил дом под Гжелью.
Сватский был вообще человек не светский, избегал, как он выражался, публичного базара, но если выходил в общество, то надевал по полному чину костюм, белоснежную сорочку, тугой галстук, церемонный был человек. В костюме его мощное тело глохло. Раз он заехал за женой в издательство в подобном виде. Ольга окружила его такой заботой, что Вадя от смущения чувствовал себя не в костюме, а закованным в блистающие латы. Ольга хлопотала около него в издательской столовой, приговаривая: «Тебе нравится этот салатик, Вадечка, а этот компотик?». «Ништяк», – тихо отвечал Сватский и проникновенно смотрел мимо тарелки. Дома он ждал продолжения заботы, но, разумеется, не дождался, человек наивный был неисправимо. По ходу дачной работы, когда Вадя раздевался по пояс и подставлял широкую, усеянную рытвинками, спину под самое огнедышащее солнце, его тело пело.
Сегодня Ольга вовсе не ждала мужа.
– Приперся среди ночи, амбал, – сказала она и слегка стукнула костяшками пальцев мужа в лоб.
«Амбал» было не совсем оскорбление, так Сватского называли друзья в юности; но Сватский почему-то уязвленно опустил глаза.
– Хватит базлать, – произнес он. Думал еще что добавить, но, решив, что сказал достаточно, прошел на кухню. Там он сел, положил руку на угол стола, так что кисть руки свесилась, через плечо уставился на заварочный чайник, красный, в белый горох; глаза Сватского потускнели. Ольга нервно села рядом и сразу почувствовала отчаянье, словно это не муж, а дьявол пришел погубить ее душу.
– Оля, – сказал Сватский так неожиданно, что Ольга вздрогнула. – Я, конечно, и капитан подводной лодки…
– Варька называет тебя Хароном, – усмехнулась Оля.
– Таких, как Посошкова, я вешал бы на фор-марса-рее.
– Ты же сам утверждал, что на женщин поднимают руку последние козлы. Ты что, козел?
– Летом, когда мы купили цемент под фундамент… – продолжил прерванную мысль Сватский.
– Я купила, – поправила Оля.
– … я был рабом египетского фараона. Потом, когда побрил голову, сам стал египетским фараоном. Но только сегодня, по дороге домой, я понял, что всё, что делаю, неспроста, что и в мореходке я пил неспроста, на последние башли. И в Университете пил неспроста.
– Ты алкоголик, – подтвердила Оля.
– Всё неспроста… – Вадя замолчал. Погрузился было в раздумье, но, усмехнувшись, продолжил: – Я пустой человек. Потому что жил ради тебя. Я гуманист. Я Петрарка. Я выстроил эту подводную лодку, – Вадя обвел рукой кухню, – тоже для тебя.
За окном весело, победоносно рванул первый снег.
– О! – поднял указательный палец Сватский.
– Я-то тут при чем? – не выдержала Оля. – Ты обо мне и не помнишь, – она суетливо огляделась. – От сына телеграмма, опять денег просит. Он думает, так и надо: он будет хипповать, вшей домой привозить, мать в любом случае оплатит его free love. А что прикажешь ему делать? Как его отец, писать номера на вагонах? Еще хорошо, что он не пьет, как отец, одеколон. Гляньте на него, сидит, косая сажень в плечах, балдеет от самого себя, ему уже и одеколона не надо… Гиббон! Ты же ворочаешь фонарные столбы, каждый день крутишь у меня перед глазами трехпудовыми гирями. Но зачем ты ворочаешь, для чего крутишь?
– Всё это неспроста, – улыбнулся Вадя. – Семь лет, семь лет я не целовал тебя. Помнишь, как мы целовались последний раз? Ты потом в полевой бинокль смотрела на звезды, я на вытянутой руке поднял тебя, чтобы ты могла лучше их рассмотреть.
– Ладно, хватит, мне вставать в пять часов утра, прости, – сухо ответила Ольга, и, может, и вправду что-то вспомнив и чего-то нежно устыдившись, поправилась: – прости, Вадя.
Сватский молча встал, почесал ручищей седой затылок и на цыпочках, в страхе разбудить дочь, ушел на свою узкую кровать за дверью.
На следующий день Панченко и Варя сорвались в Ленинград. Панченко взял больничный, потому что болезнь горла все росла в нем. Варя же с тех пор, как получила должность старшего редактора, ходила в редакцию два раза в неделю, больше читала рукописи дома.
Питерский вечер скупо дарил солнечные лучи. Набережная пустовала, гранит темнел, мрачно отбивая плоские волны Невы, солнце соскальзывало с них на посвежевшее лицо Варвары, влажные ветер полоскал ее теплую юбку. Панченко с лихорадочным волнением заговорщика прогуливался подле сфинкса, поглядывал сквозь взбунтовавшиеся длинные седые волосы на все тяжелеющий над городом блик Исакия. Вдруг он остановился, выхватил из внутреннего кармана пальто бутылку дешевого вермута.
– Повод? – покосилась Варя.
Панченко спрятал бутылку обратно.
– Поехали отсюда, а? – сказал он. – Меня здесь комары по ночам кусают.
Варвара отдала ему картонную коробочку с пирожными, обвила руками его шею. По тяжести рук Панченко нашел, что его возлюбленная хочет спать. Минувшей ночью, когда ходили по городу, удрученно радовались ходьбе как таковой, встретился какой-то.
– Вы похожи на инопланетян! – сказал он. – Земляне такими не бывают.
– Да, вы угадали, мы и есть инопланетяне, – подтвердила Варя.
Человек этот потом робко шел следом, приговаривал:
– Инопланетяне!.. Звездные пришельцы… Но неужели во всей вселенной нечего выпить?
Он сокрушенно вздыхал, и всё отставал, пока совсем не отстал, не исчез, как тень, срезанная углом дома.
«У Прохора ведь был вермут, а он не угостил. Старый сквалыга…» – подумала сейчас Варя, обнимая Панченко.
Когда в поезде возвращались в Москву – сочиняли стихи, смеялись; жалко, что не запомнилось ни единого слова.
II
Расселялась зима. К ней болезнь жила в Прохоре Панченко на полных правах, она жила, он умирал. Сознание мутилось от решения врачей: рак. И Прохор теперь не мог ясно различить: где он, где болезнь. Он трется в вокзальной толчее, внимательно слушает уличных музыкантов, или болезнь его бродит, и нет ей покоя. Зима долгая пора на нашей земле; скрашивают ее лишь частые праздники. Но Панченко обходил праздники стороной. Хоть Варя по-прежнему была рядом с ним, Панченко начинал любить ее бескорыстно, как лес, ускользающий от него. Если лес с погребенным под сугробами валежником, с закатным снегириным солнышком вдалеке, со снежными муфтами и папахами на ветках, с белой решеткой скрещенных ветвей, – может ускользнуть, перевернуться вверх дном и ускользнуть в бездонность зеленоватого, побалованного за короткий зимний день солнышком, неба, то что же взять с Варвары? Зимой она спит день напролет, изредка проснется и ругается. Пусть спит, а вечером пусть проснется и бежит на праздники.
Панченко стоял в больничном коридоре, прижимая к груди пакет с нужными в больнице пожитками. «Панченко! – крикнула ему медсестра что есть мочи, как последний раз кричали ему, быть может, в детском доме, – займите свою койку!» Панченко странно было слышать в этих скорбных стенах свою фамилию, он потерянно оглянулся, родное тепло фамилии привело его в дрожь, как у неверного костерка на сильном морозе. Панченко вошел в палату, сел на койку.
– Сегодня что на второе? – не замечая новичка, спросил один больной другого.
– Кажется, плов, – ответил другой больной.
– Это еще ничего… – вздохнул первый.
Панченко осмотрел их своим диким взглядом, но никому здесь не оказалось дела до его взгляда, да и сам он дичился разве что по привычке. В этой палате не было оживления, как иной раз в травматологическом отделении, где один сломал ногу, другой руку, третий порвал сухожилия ладони, а так все бодры, там и анекдоты, и волокитство за надменными и одноминутно сговорчивыми медсестрами. В этой палате всё по-иному. Здесь один хочет встать, бежать, но замирает под двумя одеялами, другой рад бы лечь, заснуть, увидеть длинный сон, но ходит и ходит по палате в тревоге, не отыщет себе места, с робостью в очах приглашает сопалатников к себе в гости, в Грузию; сопалатники принимают приглашение, но куда? Ведь известно им, что дни гостеприимца сочтены, и очень уж далека и несбыточна его волшебная Грузия.
Они вернулись на кухню, выпили мировую. В Варе совершенно не было обиды, и это слегка тревожило Панченко.
– Закусывайте, Прохор Николаевич, вот у меня тут сыр имеется, – с назойливым радушием предлагала Ольга.
– После первого брака не закусываю, – отвечал Панченко.
Выпив, он со своей доверительной трескучей хрипотцой рассказал, обращаясь единственно к Сватской, стихотворение Бунина «Я простая девка на баштане». Варя разула одну ногу, положила ее Прохору на колени, у нее была маленькая, но широкая ступня с коротенькими пальчиками. Приказала: «Целуй!». Панченко с суровой покорностью дворецкого приник к ноге.
В начале одиннадцатого Панченко и Варя собрались уходить, затопали в прихожей. Ольга, вскинув хмельную голову, оглядела их: завистливо и печально Варины русые, выгоревшие за лето волосы; осмелев, седую голову Панченко, его заиндевелую от прочного хмеля бороду, которую он отпускал, поспевая к зиме, и озорно сказала:
– Как вы ладно смотритесь, ребята! Золото и серебро!
Панченко и Варя, хохоча, отшучиваясь, ушли.
Вернулась с улицы дочка Злата, полная голубоглазая девочка. Ольга зеленкой помазала ей разбитые коленки, расплела бедные короткие косички, отправила спать.
Вадя Сватский, приземистый пожилой атлет с седым ежиком на голове, приехал домой внезапно, в двенадцатом часу. На внешней стороне кисти, в том месте, где, если обзаводятся наколкой, обыкновенно пишут свое имя или инициалы, у Вади было начертано: Ding an sich, в переводе с немецкого: «Вещь в себе» – понятие Иммануила Канта. Последний год Вадя редко появлялся в своей городской квартире, строил дом под Гжелью.
Сватский был вообще человек не светский, избегал, как он выражался, публичного базара, но если выходил в общество, то надевал по полному чину костюм, белоснежную сорочку, тугой галстук, церемонный был человек. В костюме его мощное тело глохло. Раз он заехал за женой в издательство в подобном виде. Ольга окружила его такой заботой, что Вадя от смущения чувствовал себя не в костюме, а закованным в блистающие латы. Ольга хлопотала около него в издательской столовой, приговаривая: «Тебе нравится этот салатик, Вадечка, а этот компотик?». «Ништяк», – тихо отвечал Сватский и проникновенно смотрел мимо тарелки. Дома он ждал продолжения заботы, но, разумеется, не дождался, человек наивный был неисправимо. По ходу дачной работы, когда Вадя раздевался по пояс и подставлял широкую, усеянную рытвинками, спину под самое огнедышащее солнце, его тело пело.
Сегодня Ольга вовсе не ждала мужа.
– Приперся среди ночи, амбал, – сказала она и слегка стукнула костяшками пальцев мужа в лоб.
«Амбал» было не совсем оскорбление, так Сватского называли друзья в юности; но Сватский почему-то уязвленно опустил глаза.
– Хватит базлать, – произнес он. Думал еще что добавить, но, решив, что сказал достаточно, прошел на кухню. Там он сел, положил руку на угол стола, так что кисть руки свесилась, через плечо уставился на заварочный чайник, красный, в белый горох; глаза Сватского потускнели. Ольга нервно села рядом и сразу почувствовала отчаянье, словно это не муж, а дьявол пришел погубить ее душу.
– Оля, – сказал Сватский так неожиданно, что Ольга вздрогнула. – Я, конечно, и капитан подводной лодки…
– Варька называет тебя Хароном, – усмехнулась Оля.
– Таких, как Посошкова, я вешал бы на фор-марса-рее.
– Ты же сам утверждал, что на женщин поднимают руку последние козлы. Ты что, козел?
– Летом, когда мы купили цемент под фундамент… – продолжил прерванную мысль Сватский.
– Я купила, – поправила Оля.
– … я был рабом египетского фараона. Потом, когда побрил голову, сам стал египетским фараоном. Но только сегодня, по дороге домой, я понял, что всё, что делаю, неспроста, что и в мореходке я пил неспроста, на последние башли. И в Университете пил неспроста.
– Ты алкоголик, – подтвердила Оля.
– Всё неспроста… – Вадя замолчал. Погрузился было в раздумье, но, усмехнувшись, продолжил: – Я пустой человек. Потому что жил ради тебя. Я гуманист. Я Петрарка. Я выстроил эту подводную лодку, – Вадя обвел рукой кухню, – тоже для тебя.
За окном весело, победоносно рванул первый снег.
– О! – поднял указательный палец Сватский.
– Я-то тут при чем? – не выдержала Оля. – Ты обо мне и не помнишь, – она суетливо огляделась. – От сына телеграмма, опять денег просит. Он думает, так и надо: он будет хипповать, вшей домой привозить, мать в любом случае оплатит его free love. А что прикажешь ему делать? Как его отец, писать номера на вагонах? Еще хорошо, что он не пьет, как отец, одеколон. Гляньте на него, сидит, косая сажень в плечах, балдеет от самого себя, ему уже и одеколона не надо… Гиббон! Ты же ворочаешь фонарные столбы, каждый день крутишь у меня перед глазами трехпудовыми гирями. Но зачем ты ворочаешь, для чего крутишь?
– Всё это неспроста, – улыбнулся Вадя. – Семь лет, семь лет я не целовал тебя. Помнишь, как мы целовались последний раз? Ты потом в полевой бинокль смотрела на звезды, я на вытянутой руке поднял тебя, чтобы ты могла лучше их рассмотреть.
– Ладно, хватит, мне вставать в пять часов утра, прости, – сухо ответила Ольга, и, может, и вправду что-то вспомнив и чего-то нежно устыдившись, поправилась: – прости, Вадя.
Сватский молча встал, почесал ручищей седой затылок и на цыпочках, в страхе разбудить дочь, ушел на свою узкую кровать за дверью.
На следующий день Панченко и Варя сорвались в Ленинград. Панченко взял больничный, потому что болезнь горла все росла в нем. Варя же с тех пор, как получила должность старшего редактора, ходила в редакцию два раза в неделю, больше читала рукописи дома.
Питерский вечер скупо дарил солнечные лучи. Набережная пустовала, гранит темнел, мрачно отбивая плоские волны Невы, солнце соскальзывало с них на посвежевшее лицо Варвары, влажные ветер полоскал ее теплую юбку. Панченко с лихорадочным волнением заговорщика прогуливался подле сфинкса, поглядывал сквозь взбунтовавшиеся длинные седые волосы на все тяжелеющий над городом блик Исакия. Вдруг он остановился, выхватил из внутреннего кармана пальто бутылку дешевого вермута.
– Повод? – покосилась Варя.
Панченко спрятал бутылку обратно.
– Поехали отсюда, а? – сказал он. – Меня здесь комары по ночам кусают.
Варвара отдала ему картонную коробочку с пирожными, обвила руками его шею. По тяжести рук Панченко нашел, что его возлюбленная хочет спать. Минувшей ночью, когда ходили по городу, удрученно радовались ходьбе как таковой, встретился какой-то.
– Вы похожи на инопланетян! – сказал он. – Земляне такими не бывают.
– Да, вы угадали, мы и есть инопланетяне, – подтвердила Варя.
Человек этот потом робко шел следом, приговаривал:
– Инопланетяне!.. Звездные пришельцы… Но неужели во всей вселенной нечего выпить?
Он сокрушенно вздыхал, и всё отставал, пока совсем не отстал, не исчез, как тень, срезанная углом дома.
«У Прохора ведь был вермут, а он не угостил. Старый сквалыга…» – подумала сейчас Варя, обнимая Панченко.
Когда в поезде возвращались в Москву – сочиняли стихи, смеялись; жалко, что не запомнилось ни единого слова.
II
Расселялась зима. К ней болезнь жила в Прохоре Панченко на полных правах, она жила, он умирал. Сознание мутилось от решения врачей: рак. И Прохор теперь не мог ясно различить: где он, где болезнь. Он трется в вокзальной толчее, внимательно слушает уличных музыкантов, или болезнь его бродит, и нет ей покоя. Зима долгая пора на нашей земле; скрашивают ее лишь частые праздники. Но Панченко обходил праздники стороной. Хоть Варя по-прежнему была рядом с ним, Панченко начинал любить ее бескорыстно, как лес, ускользающий от него. Если лес с погребенным под сугробами валежником, с закатным снегириным солнышком вдалеке, со снежными муфтами и папахами на ветках, с белой решеткой скрещенных ветвей, – может ускользнуть, перевернуться вверх дном и ускользнуть в бездонность зеленоватого, побалованного за короткий зимний день солнышком, неба, то что же взять с Варвары? Зимой она спит день напролет, изредка проснется и ругается. Пусть спит, а вечером пусть проснется и бежит на праздники.
Панченко стоял в больничном коридоре, прижимая к груди пакет с нужными в больнице пожитками. «Панченко! – крикнула ему медсестра что есть мочи, как последний раз кричали ему, быть может, в детском доме, – займите свою койку!» Панченко странно было слышать в этих скорбных стенах свою фамилию, он потерянно оглянулся, родное тепло фамилии привело его в дрожь, как у неверного костерка на сильном морозе. Панченко вошел в палату, сел на койку.
– Сегодня что на второе? – не замечая новичка, спросил один больной другого.
– Кажется, плов, – ответил другой больной.
– Это еще ничего… – вздохнул первый.
Панченко осмотрел их своим диким взглядом, но никому здесь не оказалось дела до его взгляда, да и сам он дичился разве что по привычке. В этой палате не было оживления, как иной раз в травматологическом отделении, где один сломал ногу, другой руку, третий порвал сухожилия ладони, а так все бодры, там и анекдоты, и волокитство за надменными и одноминутно сговорчивыми медсестрами. В этой палате всё по-иному. Здесь один хочет встать, бежать, но замирает под двумя одеялами, другой рад бы лечь, заснуть, увидеть длинный сон, но ходит и ходит по палате в тревоге, не отыщет себе места, с робостью в очах приглашает сопалатников к себе в гости, в Грузию; сопалатники принимают приглашение, но куда? Ведь известно им, что дни гостеприимца сочтены, и очень уж далека и несбыточна его волшебная Грузия.