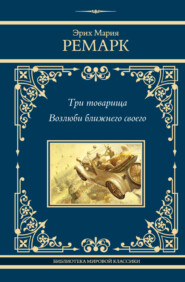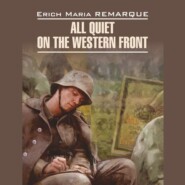По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля обетованная. Последняя остановка. Последний акт (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мы же человеколюбцы, – заявил длинный. – Еще какие человеколюбцы, приятель! В пределах разумного, конечно!
Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота, и рассеянно кивнул.
– Утренние газеты уже вышли? – спросил я.
– Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет.
Я побрел вдоль по улице, прошел мимо «Сент-Морица», единственного виденного мной в Нью-Йорке отеля с небольшим палисадником и столиками, где можно было спокойно посидеть с газетой. В отличие от Парижа, Вены да и любого городка в Европе, где в кафе можно почитать газету, в Нью-Йорке таких кафе не было. Видимо, здесь ни у кого не хватало времени на такую ерунду. Я подошел к газетному киоску. Почему-то вдруг я ужасно устал. Проглядел первую страницу. Гитлер не убит. В остальном сообщения противоречили друг другу. Неясно, то ли это мятеж военных, то ли нет. По слухам, Берлин все еще в руках восставших частей. Но предводители уже арестованы верными Гитлеру генералами. Сам Гитлер жив. И не в руках мятежников. Наоборот, уже успел отдать приказ всех мятежников вешать.
– Когда будут следующие газеты? – спросил я.
– Утром. Дневные выпуски. Это уже утренние.
Я в растерянности смотрел на продавца.
– Радио, – сказал он. – Радио включите. Там по всем программам всю ночь одни последние известия.
– Верно! – обрадовался я.
У меня-то радио не было. Но у Мойкова есть. Может, он уже вернулся. Я схватил такси и поехал в гостиницу. Я слишком обессилел, чтобы идти пешком. К тому же хотелось добраться как можно скорее. Меня охватила странная апатия, как будто я слышу и воспринимаю окружающее сквозь слой ваты, хотя внутри все дрожало от нетерпения.
Мойков был на месте. Никуда не ушел.
– К тебе Роберт Хирш приходил, – сообщил он мне.
– Когда?
– Часа два назад.
Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру.
– Он что-нибудь передал? – спросил я.
Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник.
– Принес тебе вот это. «Зенит», между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится.
Я кивнул.
– Больше он ничего не сказал?
– Да он только полчаса как ушел. Был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог – это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Он считает, покушение – это путч военных, и устроили они его не потому, что нацисты изверги и убийцы, для которых право – просто кровавый фарс, а потому, что войну проиграли. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив и жаждет мести, Хирш ушел. А приемник тебе оставил.
– С тех пор больше ничего не передавали?
– Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение.
– А как же иначе. О фронтовых частях что-нибудь слышно?
Мойков помотал головой.
– Ничего, Людвиг. Война продолжается.
Я кивнул. Мойков посмотрел на меня.
– Ты, я погляжу, аж зеленый весь. С Робертом Хиршем я уже бутылку водки выпил. Но готов выпить с тобой еще одну. В такую ночь только последние нервы гробить. Или водку пить.
Я протестующе поднял руки.
– Нет, Владимир. Я и так с ног валюсь. Но радио возьму. У меня в комнате, надеюсь, есть розетка?
– Она тебе не нужна. Это портативный приемник. – Мойков все еще не сводил с меня глаз. – Слушай, не сходи с ума, – сказал он. – Прими хотя бы глоток. И вот это. – Он раскрыл свою громадную ладонь, на которой лежали три таблетки. – Чтобы заснуть. Завтра утром сто раз успеешь выяснить, что правда, а что нет. Ты уж послушай совет престарелого эмигранта, который десять раз такие же надежды переживал и одиннадцать раз их хоронил.
– Думаешь, это тоже все пойдет прахом?
– Завтра узнаем. По ночам надежда приносит странные сны. Я-то знаю: даже убийца иной раз может показаться ангелом, ежели ратует за твое дело, а не против него. Лично я все эти игры давно бросил и предпочитаю снова верить в десять заповедей. Хотя и они, как известно, весьма далеки от совершенства.
Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама, ее серая иссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал.
– Вам что-нибудь нужно, графиня?
Тень истово закивала.
– Сердечные капли, Владимир Иванович! Мои все вышли. Ох уж эти июльские ночи! Никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь!
Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки.
– Вот ваше сердечное, графиня. Спокойной ночи. Спите хорошенько.
– Попытаюсь.
Тень, шурша, удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами.
– Она живет только прошлым. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. – Он снова внимательно взглянул на меня. – Слишком много всего случилось за эти последние тридцать лет, верно, Людвиг? А справедливости в кровавом прошлом нет. И быть не может. Иначе пришлось бы истребить половину человечества. Ты уж поверь мне, старику, который когда-то думал так же, как ты.
Я взял приемник и пошел к себе в комнату. Окна были распахнуты. На ночном столике стояла китайская бронза. Как же давно все это было, подумал я. Я поставил приемник рядом с вазой и стал слушать новости, которые передавались нерегулярно и пулеметной скороговоркой, в коротких паузах между джазовой музыкой и рекламой виски, туалетной бумаги, летних распродаж, бензина и фешенебельных кладбищ с сухой песчаной почвой и изумительными видами. Я пытался поймать какую-нибудь заокеанскую программу, Англию, Африку, и иногда это почти удавалось, я даже разбирал отдельные слова, но они тут же тонули в трескучих помехах – то ли шторм бушевал над океаном, то ли полыхали где-то за горизонтами грозы, а может, доносились отголоски далекой битвы. Я отошел и уставился в окно, в которое всеми своими звездами безмолвно и бездонно глядела июльская ночь. Потом снова включил приемник, окунувшись в мешанину из тупой рекламы и подлинного исторического трагизма, между которыми жестяные металлические голоса не делали никаких различий, разве что реклама становилась все назойливей и громче, а новости все безотрадней. Покушение не удалось, в армии идут аресты мятежников, генералы против генералов, при этом партия убийц уже дискутирует новые методы зверств – подвергнуть заговорщиков очень медленному удушению через повешение или всего лишь обезглавить. Этой ночью Бога часто беспокоили мольбами; но он, похоже, твердо решил оставаться на стороне Гитлера. Совершенно разбитый, я заснул только под утро.
Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер – это был неприметный эмигрант, почти безвылазно и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел.
– Можешь занять его комнату, – сказал Мойков. – Она немного побольше твоей. И лучше. До ванной ближе. Цена та же.
Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Я, честно говоря, тоже.
– Вид у тебя отвратительный, – констатировал он. – Судя по всему, снотворное тебя не берет.
– Почему же, обычно берет.
Он глянул на меня неодобрительно.
Я вдруг почувствовал, что весь затылок у меня взмок от пота, и рассеянно кивнул.
– Утренние газеты уже вышли? – спросил я.
– Вышли. Жив ублюдок. Ублюдкам всегда везет.
Я побрел вдоль по улице, прошел мимо «Сент-Морица», единственного виденного мной в Нью-Йорке отеля с небольшим палисадником и столиками, где можно было спокойно посидеть с газетой. В отличие от Парижа, Вены да и любого городка в Европе, где в кафе можно почитать газету, в Нью-Йорке таких кафе не было. Видимо, здесь ни у кого не хватало времени на такую ерунду. Я подошел к газетному киоску. Почему-то вдруг я ужасно устал. Проглядел первую страницу. Гитлер не убит. В остальном сообщения противоречили друг другу. Неясно, то ли это мятеж военных, то ли нет. По слухам, Берлин все еще в руках восставших частей. Но предводители уже арестованы верными Гитлеру генералами. Сам Гитлер жив. И не в руках мятежников. Наоборот, уже успел отдать приказ всех мятежников вешать.
– Когда будут следующие газеты? – спросил я.
– Утром. Дневные выпуски. Это уже утренние.
Я в растерянности смотрел на продавца.
– Радио, – сказал он. – Радио включите. Там по всем программам всю ночь одни последние известия.
– Верно! – обрадовался я.
У меня-то радио не было. Но у Мойкова есть. Может, он уже вернулся. Я схватил такси и поехал в гостиницу. Я слишком обессилел, чтобы идти пешком. К тому же хотелось добраться как можно скорее. Меня охватила странная апатия, как будто я слышу и воспринимаю окружающее сквозь слой ваты, хотя внутри все дрожало от нетерпения.
Мойков был на месте. Никуда не ушел.
– К тебе Роберт Хирш приходил, – сообщил он мне.
– Когда?
– Часа два назад.
Как раз в то время, когда я стучался к нему в квартиру.
– Он что-нибудь передал? – спросил я.
Мойков кивнул на небольшой, поблескивающий хромированными ручками радиоприемник.
– Принес тебе вот это. «Зенит», между прочим. Очень хороший аппарат. Сказал, что тебе он сегодня наверняка понадобится.
Я кивнул.
– Больше он ничего не сказал?
– Да он только полчаса как ушел. Был взволнован, но без всякого оптимизма. Немцам, говорит, не удавалась еще ни одна революция. Им даже мятеж не по зубам. Их бог – это приказ и послушание, а уж никак не совесть. Он считает, покушение – это путч военных, и устроили они его не потому, что нацисты изверги и убийцы, для которых право – просто кровавый фарс, а потому, что войну проиграли. Да мы еще полчаса назад последние известия слушали. Когда стало ясно, что Гитлер жив и жаждет мести, Хирш ушел. А приемник тебе оставил.
– С тех пор больше ничего не передавали?
– Гитлер собирается выступить с речью. Будет убеждать народ, что его спасло провидение.
– А как же иначе. О фронтовых частях что-нибудь слышно?
Мойков помотал головой.
– Ничего, Людвиг. Война продолжается.
Я кивнул. Мойков посмотрел на меня.
– Ты, я погляжу, аж зеленый весь. С Робертом Хиршем я уже бутылку водки выпил. Но готов выпить с тобой еще одну. В такую ночь только последние нервы гробить. Или водку пить.
Я протестующе поднял руки.
– Нет, Владимир. Я и так с ног валюсь. Но радио возьму. У меня в комнате, надеюсь, есть розетка?
– Она тебе не нужна. Это портативный приемник. – Мойков все еще не сводил с меня глаз. – Слушай, не сходи с ума, – сказал он. – Прими хотя бы глоток. И вот это. – Он раскрыл свою громадную ладонь, на которой лежали три таблетки. – Чтобы заснуть. Завтра утром сто раз успеешь выяснить, что правда, а что нет. Ты уж послушай совет престарелого эмигранта, который десять раз такие же надежды переживал и одиннадцать раз их хоронил.
– Думаешь, это тоже все пойдет прахом?
– Завтра узнаем. По ночам надежда приносит странные сны. Я-то знаю: даже убийца иной раз может показаться ангелом, ежели ратует за твое дело, а не против него. Лично я все эти игры давно бросил и предпочитаю снова верить в десять заповедей. Хотя и они, как известно, весьма далеки от совершенства.
Из полутьмы возникла женская тень. Это была очень старая дама, ее серая иссохшая кожа напоминала мятую пергаментную бумагу. Мойков встал.
– Вам что-нибудь нужно, графиня?
Тень истово закивала.
– Сердечные капли, Владимир Иванович! Мои все вышли. Ох уж эти июльские ночи! Никак не заснешь. Они напоминают мне летние ночи пятнадцатого года в Петербурге. Бедный царь!
Мойков протянул ей маленькую бутылочку водки.
– Вот ваше сердечное, графиня. Спокойной ночи. Спите хорошенько.
– Попытаюсь.
Тень, шурша, удалилась. На ней было очень старомодное кружевное платье с рюшами.
– Она живет только прошлым. После революции семнадцатого время для нее остановилось. Она тогда и умерла, просто не знает об этом. – Он снова внимательно взглянул на меня. – Слишком много всего случилось за эти последние тридцать лет, верно, Людвиг? А справедливости в кровавом прошлом нет. И быть не может. Иначе пришлось бы истребить половину человечества. Ты уж поверь мне, старику, который когда-то думал так же, как ты.
Я взял приемник и пошел к себе в комнату. Окна были распахнуты. На ночном столике стояла китайская бронза. Как же давно все это было, подумал я. Я поставил приемник рядом с вазой и стал слушать новости, которые передавались нерегулярно и пулеметной скороговоркой, в коротких паузах между джазовой музыкой и рекламой виски, туалетной бумаги, летних распродаж, бензина и фешенебельных кладбищ с сухой песчаной почвой и изумительными видами. Я пытался поймать какую-нибудь заокеанскую программу, Англию, Африку, и иногда это почти удавалось, я даже разбирал отдельные слова, но они тут же тонули в трескучих помехах – то ли шторм бушевал над океаном, то ли полыхали где-то за горизонтами грозы, а может, доносились отголоски далекой битвы. Я отошел и уставился в окно, в которое всеми своими звездами безмолвно и бездонно глядела июльская ночь. Потом снова включил приемник, окунувшись в мешанину из тупой рекламы и подлинного исторического трагизма, между которыми жестяные металлические голоса не делали никаких различий, разве что реклама становилась все назойливей и громче, а новости все безотрадней. Покушение не удалось, в армии идут аресты мятежников, генералы против генералов, при этом партия убийц уже дискутирует новые методы зверств – подвергнуть заговорщиков очень медленному удушению через повешение или всего лишь обезглавить. Этой ночью Бога часто беспокоили мольбами; но он, похоже, твердо решил оставаться на стороне Гитлера. Совершенно разбитый, я заснул только под утро.
Уже днем я узнал от Мойкова, что один из постояльцев ночью умер – это был неприметный эмигрант, почти безвылазно и тихо сидевший у себя в номере. Звали его Зигфрид Заль, и умер он от инфаркта. Я его вообще ни разу не видел.
– Можешь занять его комнату, – сказал Мойков. – Она немного побольше твоей. И лучше. До ванной ближе. Цена та же.
Я отказался. Этого Мойков решительно не мог понять. Я, честно говоря, тоже.
– Вид у тебя отвратительный, – констатировал он. – Судя по всему, снотворное тебя не берет.
– Почему же, обычно берет.
Он глянул на меня неодобрительно.