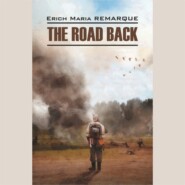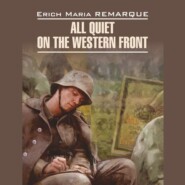По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три товарища. Возлюби ближнего своего
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кузина! – передразнила она меня, вложив в интонацию все свое презрение. – И когда же пожалует ваша кузина?
– Ну, я в этом не совсем уверен, но если она придет, то, конечно, достаточно рано, к ужину. А почему, собственно, не должно быть на свете кузин, фрау Залевски?
– Кузины на свете, конечно, бывают, да только ради них не одалживают кресла.
– А я вот одалживаю, у меня, видите ли, очень развито родственное чувство, – заявил я.
– Как же, как же! На вас это очень похоже! Все вы шатуны. А парчовые кресла можете взять. Свои плюшевые поставьте пока в гостиную.
– Большое спасибо. Завтра я все верну на свои места. И ковер тоже.
– Ковер? – Она повернулась. – Кто здесь сказал хоть слово о ковре?
– Я. Да и вы тоже. Только что.
Она сердито смотрела на меня.
– Так он как бы часть целого, – сказал я. – Ведь кресла стоят на нем.
– Господин Локамп, – заявила фрау Залевски величественным тоном, – не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал блаженной памяти Залевски. Не худо бы и вам усвоить себе этот девиз.
Я-то знал, что этот девиз не помешал блаженной памяти Залевски однажды в буквальном смысле упиться до смерти. Его жена в иных обстоятельствах сама не раз рассказывала мне об этом. Но ей это было нипочем. Она использовала своего мужа, как другие люди Библию, то есть для цитирования. И чем больше времени проходило со дня его смерти, тем больше изречений она ему приписывала. Теперь он уже – как и Библия – годился на все случаи жизни.
Я приводил свою комнату в божеский вид. Днем я разговаривал с Патрицией Хольман по телефону. До этого она была больна, и я целую неделю не виделся с ней. Теперь же мы условились на восемь, я предложил поужинать у меня, а потом пойти в кино.
Парчовые кресла и ковер производили внушительное впечатление, но освещение портило все. Поэтому я постучал к своим соседям, Хассе, чтобы попросить у них настольную лампу на вечер. Фрау Хассе с усталым видом сидела у окна. Ее супруга еще не было дома. Он по собственной воле задерживался на часик-другой на работе, лишь бы избежать увольнения. Фрау Хассе чем-то напоминала больную птицу. В ее расплывшихся и постаревших чертах все еще проглядывало узкое личико маленькой девочки – разочарованной и печальной.
Я изложил свою просьбу. Несколько оживившись, она вручила мне лампу.
– Подумать только, – сказала она, вздыхая, – ведь и я в свое время…
Эту историю я знал назубок. Она повествовала о том, какие замечательные виды открылись бы перед ней, если б она не вышла замуж за Хассе. Я знал эту историю и в редакции самого Хассе. Там речь шла о том, какие перед ним открылись бы замечательные виды, если бы он не женился. По-видимому, это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная.
Я послушал ее какое-то время, вставив по ходу дела несколько подходящих фраз, и направился к Эрне Бениг за ее патефоном.
Фрау Хассе говорила об Эрне не иначе как об «этой особе, проживающей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же души в ней не чаял. Она не строила себе никаких иллюзий и твердо знала, что нужно постараться урвать хоть немного от того, что у людей называется счастьем. Знала она и то, что за каждую кроху счастья нужно платить вдвое, а то и втридорога. Счастье – это самая неопределенная вещь на свете, которая идет по самой дорогой цене.
Эрна опустилась на колени и принялась рыться в чемодане, подбирая мне пластинки.
– Фокстроты хотите? – спросила она.
– Нет, – ответил я, – я не умею танцевать.
Она удивленно воззрилась на меня.
– Не умеете танцевать? Но что же вы делаете, когда ходите вечером развлекаться?
– Устраиваю перепляс в своем горле. Тоже, знаете, получается неплохо.
Она покачала головой:
– Мужчина, не умеющий танцевать? Нет, я такому сразу бы дала от ворот поворот!
– У вас суровые правила, – заметил я. – Но ведь есть же и другие пластинки. Вот недавно у вас играла замечательная – знаете, такой женский голос и что-то вроде гавайской музыки…
– А, это чудо! «И как я жить могла без тебя?..» Эта, да?
– Точно! Кто только придумывает все эти слова! Мне кажется, что авторы этих песенок должны быть последними романтиками на нашей земле.
Она засмеялась.
– Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь патефон теперь стал чем-то вроде альбома для посвящений. Раньше писали друг другу стишки в альбом, а теперь дарят пластинки. Если мне хочется вспомнить какой-нибудь эпизод из своей жизни, мне стоит лишь завести пластинку, которую я слушала тогда, и прошлое сразу оживет.
Я перевел взгляд на груду пластинок на полу.
– О, если судить по пластинкам, Эрна, то у вас есть о чем вспомнить.
Она встала с колен и откинула со лба непокорные рыжие волосы.
– Что верно, то верно, – сказала она, отодвигая ногой стопку пластинок. – Но я бы все свои воспоминания отдала за одно – настоящее…
Я вынул все, что закупил к ужину, и приготовил стол как умел. На помощь со стороны кухни рассчитывать не приходилось, отношения с Фридой у меня были слишком неважные. Уж она бы постаралась уронить что-нибудь на пол. Но я справился кое-как и сам, да так, что не мог узнать свою комнату в ее новом блеске. Кресла, лампа, накрытый стол – я чувствовал, как во мне растет беспокойное ожидание.
Я вышел из дома, хотя до условленного времени оставалось еще больше часа. На улице бушевал порывистый ветер, нападавший из-за угла. Фонари были уже зажжены. Сумерки между домами сгустились и посинели, как море. «Интернациональ» плавал в них, как фрегат со спущенными парусами. Я решил заглянуть туда на минутку.
– Гопля, Роберт, – встретила меня Роза.
– А ты что здесь поделываешь? – спросил я. – На дежурство не собираешься?
– Рановато еще.
Алоис словно соткался из воздуха.
– Одинарную? – спросил он.
– Тройную, – ответил я.
– Ого, резво ты начинаешь, – заметила Роза.
– Надо для куражу, – сказал я, опрокидывая ром.
– Сыграешь что-нибудь? – спросила Роза.
Я покачал головой:
– Неохота. Очень уж ветрено. Как твоя малышка?
Она улыбнулась всеми своими золотыми зубами.
– Ну, я в этом не совсем уверен, но если она придет, то, конечно, достаточно рано, к ужину. А почему, собственно, не должно быть на свете кузин, фрау Залевски?
– Кузины на свете, конечно, бывают, да только ради них не одалживают кресла.
– А я вот одалживаю, у меня, видите ли, очень развито родственное чувство, – заявил я.
– Как же, как же! На вас это очень похоже! Все вы шатуны. А парчовые кресла можете взять. Свои плюшевые поставьте пока в гостиную.
– Большое спасибо. Завтра я все верну на свои места. И ковер тоже.
– Ковер? – Она повернулась. – Кто здесь сказал хоть слово о ковре?
– Я. Да и вы тоже. Только что.
Она сердито смотрела на меня.
– Так он как бы часть целого, – сказал я. – Ведь кресла стоят на нем.
– Господин Локамп, – заявила фрау Залевски величественным тоном, – не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал блаженной памяти Залевски. Не худо бы и вам усвоить себе этот девиз.
Я-то знал, что этот девиз не помешал блаженной памяти Залевски однажды в буквальном смысле упиться до смерти. Его жена в иных обстоятельствах сама не раз рассказывала мне об этом. Но ей это было нипочем. Она использовала своего мужа, как другие люди Библию, то есть для цитирования. И чем больше времени проходило со дня его смерти, тем больше изречений она ему приписывала. Теперь он уже – как и Библия – годился на все случаи жизни.
Я приводил свою комнату в божеский вид. Днем я разговаривал с Патрицией Хольман по телефону. До этого она была больна, и я целую неделю не виделся с ней. Теперь же мы условились на восемь, я предложил поужинать у меня, а потом пойти в кино.
Парчовые кресла и ковер производили внушительное впечатление, но освещение портило все. Поэтому я постучал к своим соседям, Хассе, чтобы попросить у них настольную лампу на вечер. Фрау Хассе с усталым видом сидела у окна. Ее супруга еще не было дома. Он по собственной воле задерживался на часик-другой на работе, лишь бы избежать увольнения. Фрау Хассе чем-то напоминала больную птицу. В ее расплывшихся и постаревших чертах все еще проглядывало узкое личико маленькой девочки – разочарованной и печальной.
Я изложил свою просьбу. Несколько оживившись, она вручила мне лампу.
– Подумать только, – сказала она, вздыхая, – ведь и я в свое время…
Эту историю я знал назубок. Она повествовала о том, какие замечательные виды открылись бы перед ней, если б она не вышла замуж за Хассе. Я знал эту историю и в редакции самого Хассе. Там речь шла о том, какие перед ним открылись бы замечательные виды, если бы он не женился. По-видимому, это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная.
Я послушал ее какое-то время, вставив по ходу дела несколько подходящих фраз, и направился к Эрне Бениг за ее патефоном.
Фрау Хассе говорила об Эрне не иначе как об «этой особе, проживающей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же души в ней не чаял. Она не строила себе никаких иллюзий и твердо знала, что нужно постараться урвать хоть немного от того, что у людей называется счастьем. Знала она и то, что за каждую кроху счастья нужно платить вдвое, а то и втридорога. Счастье – это самая неопределенная вещь на свете, которая идет по самой дорогой цене.
Эрна опустилась на колени и принялась рыться в чемодане, подбирая мне пластинки.
– Фокстроты хотите? – спросила она.
– Нет, – ответил я, – я не умею танцевать.
Она удивленно воззрилась на меня.
– Не умеете танцевать? Но что же вы делаете, когда ходите вечером развлекаться?
– Устраиваю перепляс в своем горле. Тоже, знаете, получается неплохо.
Она покачала головой:
– Мужчина, не умеющий танцевать? Нет, я такому сразу бы дала от ворот поворот!
– У вас суровые правила, – заметил я. – Но ведь есть же и другие пластинки. Вот недавно у вас играла замечательная – знаете, такой женский голос и что-то вроде гавайской музыки…
– А, это чудо! «И как я жить могла без тебя?..» Эта, да?
– Точно! Кто только придумывает все эти слова! Мне кажется, что авторы этих песенок должны быть последними романтиками на нашей земле.
Она засмеялась.
– Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь патефон теперь стал чем-то вроде альбома для посвящений. Раньше писали друг другу стишки в альбом, а теперь дарят пластинки. Если мне хочется вспомнить какой-нибудь эпизод из своей жизни, мне стоит лишь завести пластинку, которую я слушала тогда, и прошлое сразу оживет.
Я перевел взгляд на груду пластинок на полу.
– О, если судить по пластинкам, Эрна, то у вас есть о чем вспомнить.
Она встала с колен и откинула со лба непокорные рыжие волосы.
– Что верно, то верно, – сказала она, отодвигая ногой стопку пластинок. – Но я бы все свои воспоминания отдала за одно – настоящее…
Я вынул все, что закупил к ужину, и приготовил стол как умел. На помощь со стороны кухни рассчитывать не приходилось, отношения с Фридой у меня были слишком неважные. Уж она бы постаралась уронить что-нибудь на пол. Но я справился кое-как и сам, да так, что не мог узнать свою комнату в ее новом блеске. Кресла, лампа, накрытый стол – я чувствовал, как во мне растет беспокойное ожидание.
Я вышел из дома, хотя до условленного времени оставалось еще больше часа. На улице бушевал порывистый ветер, нападавший из-за угла. Фонари были уже зажжены. Сумерки между домами сгустились и посинели, как море. «Интернациональ» плавал в них, как фрегат со спущенными парусами. Я решил заглянуть туда на минутку.
– Гопля, Роберт, – встретила меня Роза.
– А ты что здесь поделываешь? – спросил я. – На дежурство не собираешься?
– Рановато еще.
Алоис словно соткался из воздуха.
– Одинарную? – спросил он.
– Тройную, – ответил я.
– Ого, резво ты начинаешь, – заметила Роза.
– Надо для куражу, – сказал я, опрокидывая ром.
– Сыграешь что-нибудь? – спросила Роза.
Я покачал головой:
– Неохота. Очень уж ветрено. Как твоя малышка?
Она улыбнулась всеми своими золотыми зубами.