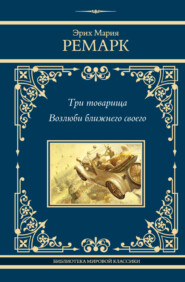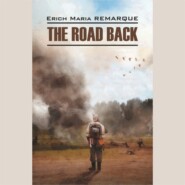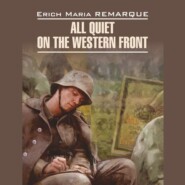По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На Западном фронте без перемен
Автор
Жанр
Год написания книги
1929
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Некоторое время он лежит молча. Потом говорит:
– Можешь взять мои сапоги, отдай Мюллеру.
Я киваю, размышляя, как бы его подбодрить. Губы у него как бы стерлись, рот стал больше, зубы выдаются вперед, как куски мела. Плоть тает, лоб выпячивается, скулы выпирают. Скелет проступает наружу. Глаза уже западают. Через несколько часов наступит конец.
Кеммерих не первый, кого я вижу таким, но мы вместе росли, и от этого все иначе. Я списывал у него сочинения. В школе он большей частью носил коричневый костюм с хлястиком, залоснившийся на рукавах. Единственный в классе он умел крутить солнце на перекладине. При этом волосы шелковой волной падали на лицо. Канторек им гордился. А вот сигареты Кеммерих не выносил. Очень белокожий, он чем-то походил на девушку.
Я гляжу на свои сапоги. Большие, неуклюжие, брюки заправлены в голенища; когда встаешь, выглядишь в этих широких штанах крепким и сильным. Но когда мы идем купаться и раздеваемся, вдруг снова обнаруживаются тонкие икры и узкие плечи. Мы тогда не солдаты, а почти мальчишки, никто бы не поверил, что мы способны таскать солдатские ранцы. Странный миг, когда мы раздеты; мы тогда штатские и едва ли не чувствуем себя таковыми.
Когда мы купались, Франц Кеммерих выглядел маленьким и хрупким, как ребенок. И вот он лежит здесь, почему? Стоило бы провести мимо его койки весь мир и сказать: это Франц Кеммерих, девятнадцати с половиной лет от роду, он не хочет умирать. Не дайте ему умереть!
Мысли у меня путаются. Пропитанный карболкой, гангренозный воздух забивает легкие мокротой, душит, как густая жижа.
Смеркается. Лицо Кеммериха блекнет, бледнеет настолько, что выделяется на подушках светящимся белым пятном. Рот тихонько шевелится. Я наклоняюсь. Он шепчет:
– Если найдете мои часы, отошлите их домой.
Я не перечу. Нет смысла. Убедить его невозможно. От беспомощности мне совсем паршиво. Этот лоб со впалыми висками, этот рот, уже и не рот, только челюсти, этот заострившийся нос! А дома – толстая плачущая женщина, которой я должен написать. Хоть бы скорее покончить с этим письмом.
Лазаретные санитары снуют вокруг с бутылями и ведрами. Один подходит, бросает испытующий взгляд на Кеммериха и опять уходит. Явно ждет, вероятно, ему нужна койка.
Я придвигаюсь поближе к Францу и, словно это его спасет, говорю:
– Может, тебя отправят в санаторий возле Клостерберга, Франц, где виллы. Будешь смотреть в окно на поля, до двух деревьев у горизонта. Сейчас самая замечательная пора, пшеница созревает, и вечером поля отливают на солнце перламутром. А тополевая аллея у Монастырского ручья, где мы ловили колюшку! Ты можешь снова завести аквариум и разводить рыбок, сможешь гулять, ни у кого не спрашиваясь, даже на фортепиано играть, если захочешь.
Я склоняюсь над его лицом, оно сейчас в тени. Он еще дышит, тихо-тихо. Лицо мокрое, он плачет. Ох и натворил я дел своей дурацкой болтовней!
– Франц! – Я беру его за плечи, прижимаюсь к его лицу. – Хочешь вздремнуть?
Он не отвечает. Слезы текут по щекам. Мне хочется их утереть, только вот платок у меня слишком грязный.
Проходит час. Я сижу в напряжении, слежу за выражением его лица – вдруг еще что-нибудь скажет. Хоть бы открыл рот и закричал! Но он только плачет, повернув голову набок. Не говорит ни о матери, ни о братьях и сестрах, не говорит ни слова, наверно, уже оставил все это позади, – сейчас он наедине со своей короткой девятнадцатилетней жизнью и плачет, оттого что она его покидает.
Более растерянного и тяжелого прощания мне никогда видеть не доводилось, хотя и Тидьен тоже уходил мучительно – медвежьей силищи парень во всю глотку звал маму и, испуганно вытаращив глаза и размахивая штыком, не подпускал врача к своей койке, пока не обессилел и не затих.
Внезапно Кеммерих стонет, начинает хрипеть.
Я вскакиваю, спотыкаясь, выбегаю в коридор, спрашиваю:
– Где врач? Где врач?
Увидев белый халат, я вцепляюсь в него.
– Идемте скорее, иначе Франц Кеммерих умрет.
Он высвобождается, спрашивает стоящего поблизости санитара:
– Что это значит?
– Койка двадцать шесть, ампутация бедра, – докладывает тот.
– Откуда мне знать, я сегодня пять ампутаций провел! – рявкает врач, отстраняет меня, говорит санитару: – Идите проверьте, – и спешит в операционную.
Дрожа от ярости, я иду с санитаром обратно. Он смотрит на меня:
– Одна операция за другой, с пяти утра… это уж чересчур, скажу я тебе, только сегодня опять шестнадцать смертей… твой семнадцатый. Наверняка до двух десятков дойдет…
Мне становится дурно, я вдруг больше не могу. Даже ругаться неохота, нет смысла, хочется рухнуть и никогда больше не вставать.
Мы у койки Кеммериха. Он мертв. Лицо еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты, желтые, как старые роговые пуговицы…
Санитар толкает меня в бок.
– Вещи его заберешь?
Я киваю, а он продолжает:
– Нам надо сразу его вынести, койка нужна. Они уже в коридоре лежат.
Я забираю вещи, отстегиваю личный знак Кеммериха. Санитар спрашивает солдатскую книжку. Книжки нет. Я говорю, что она, наверно, в канцелярии, и ухожу. За моей спиной они уже перетаскивают Франца на брезент.
За дверьми темнота и ветер – словно избавление. Я дышу изо всех сил, воздух как никогда тепло и мягко обвевает лицо. Внезапно в голове мелькают мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Ноги в сапогах двигаются вперед, я ускоряю шаг, бегу. Мимо идут солдаты, их разговоры будоражат меня, хоть я и не понимаю их смысла. Земля пропитана силами, которые через подошвы вливаются в меня. Ночь электрически потрескивает, фронт глухо громыхает, как барабанный концерт. Мои движения легки и гибки, я чувствую силу суставов, шумно дышу. Ночь живет, я живу. Ощущаю голод, больший, чем тот, что идет только от желудка…
Мюллер стоит у барака, ждет меня. Я отдаю ему сапоги. Мы заходим внутрь, он их примеряет. В самый раз.
Он роется в своих припасах, угощает меня изрядным куском сервелата. И горячим чаем с ромом.
III
Прибыло пополнение. Бреши заполняются, и соломенные тюфяки в бараках скоро уже не пустуют. Отчасти это старики, но к нам направили и двадцать пять человек новобранцев из полевых учебных лагерей. Они почти на год моложе нас. Кропп толкает меня в бок.
– Видал детишек?
Я киваю. Мы напускаем на себя гордый вид, устраиваем во дворе бритвенный сеанс, суем руки в карманы, разглядываем новобранцев и чувствуем себя старыми вояками.
К нам присоединяется Качинский. Прогулочным шагом мы проходим через конюшни и добираемся до пополнения, которому как раз выдают противогазы и кофе. Кач спрашивает одного из самых молоденьких:
– Небось давненько приличной жратвы не пробовали?
Парнишка кривится:
– Утром брюквенный хлеб, в обед брюква, на ужин котлеты из брюквы и салат из брюквы.
Качинский присвистывает с видом знатока:
– Хлеб из брюквы? Вам, ребята, еще повезло, теперь-то его уже из опилок варганят. А как насчет белых бобов, хошь порцию?
Мальчишка краснеет:
– Можешь взять мои сапоги, отдай Мюллеру.
Я киваю, размышляя, как бы его подбодрить. Губы у него как бы стерлись, рот стал больше, зубы выдаются вперед, как куски мела. Плоть тает, лоб выпячивается, скулы выпирают. Скелет проступает наружу. Глаза уже западают. Через несколько часов наступит конец.
Кеммерих не первый, кого я вижу таким, но мы вместе росли, и от этого все иначе. Я списывал у него сочинения. В школе он большей частью носил коричневый костюм с хлястиком, залоснившийся на рукавах. Единственный в классе он умел крутить солнце на перекладине. При этом волосы шелковой волной падали на лицо. Канторек им гордился. А вот сигареты Кеммерих не выносил. Очень белокожий, он чем-то походил на девушку.
Я гляжу на свои сапоги. Большие, неуклюжие, брюки заправлены в голенища; когда встаешь, выглядишь в этих широких штанах крепким и сильным. Но когда мы идем купаться и раздеваемся, вдруг снова обнаруживаются тонкие икры и узкие плечи. Мы тогда не солдаты, а почти мальчишки, никто бы не поверил, что мы способны таскать солдатские ранцы. Странный миг, когда мы раздеты; мы тогда штатские и едва ли не чувствуем себя таковыми.
Когда мы купались, Франц Кеммерих выглядел маленьким и хрупким, как ребенок. И вот он лежит здесь, почему? Стоило бы провести мимо его койки весь мир и сказать: это Франц Кеммерих, девятнадцати с половиной лет от роду, он не хочет умирать. Не дайте ему умереть!
Мысли у меня путаются. Пропитанный карболкой, гангренозный воздух забивает легкие мокротой, душит, как густая жижа.
Смеркается. Лицо Кеммериха блекнет, бледнеет настолько, что выделяется на подушках светящимся белым пятном. Рот тихонько шевелится. Я наклоняюсь. Он шепчет:
– Если найдете мои часы, отошлите их домой.
Я не перечу. Нет смысла. Убедить его невозможно. От беспомощности мне совсем паршиво. Этот лоб со впалыми висками, этот рот, уже и не рот, только челюсти, этот заострившийся нос! А дома – толстая плачущая женщина, которой я должен написать. Хоть бы скорее покончить с этим письмом.
Лазаретные санитары снуют вокруг с бутылями и ведрами. Один подходит, бросает испытующий взгляд на Кеммериха и опять уходит. Явно ждет, вероятно, ему нужна койка.
Я придвигаюсь поближе к Францу и, словно это его спасет, говорю:
– Может, тебя отправят в санаторий возле Клостерберга, Франц, где виллы. Будешь смотреть в окно на поля, до двух деревьев у горизонта. Сейчас самая замечательная пора, пшеница созревает, и вечером поля отливают на солнце перламутром. А тополевая аллея у Монастырского ручья, где мы ловили колюшку! Ты можешь снова завести аквариум и разводить рыбок, сможешь гулять, ни у кого не спрашиваясь, даже на фортепиано играть, если захочешь.
Я склоняюсь над его лицом, оно сейчас в тени. Он еще дышит, тихо-тихо. Лицо мокрое, он плачет. Ох и натворил я дел своей дурацкой болтовней!
– Франц! – Я беру его за плечи, прижимаюсь к его лицу. – Хочешь вздремнуть?
Он не отвечает. Слезы текут по щекам. Мне хочется их утереть, только вот платок у меня слишком грязный.
Проходит час. Я сижу в напряжении, слежу за выражением его лица – вдруг еще что-нибудь скажет. Хоть бы открыл рот и закричал! Но он только плачет, повернув голову набок. Не говорит ни о матери, ни о братьях и сестрах, не говорит ни слова, наверно, уже оставил все это позади, – сейчас он наедине со своей короткой девятнадцатилетней жизнью и плачет, оттого что она его покидает.
Более растерянного и тяжелого прощания мне никогда видеть не доводилось, хотя и Тидьен тоже уходил мучительно – медвежьей силищи парень во всю глотку звал маму и, испуганно вытаращив глаза и размахивая штыком, не подпускал врача к своей койке, пока не обессилел и не затих.
Внезапно Кеммерих стонет, начинает хрипеть.
Я вскакиваю, спотыкаясь, выбегаю в коридор, спрашиваю:
– Где врач? Где врач?
Увидев белый халат, я вцепляюсь в него.
– Идемте скорее, иначе Франц Кеммерих умрет.
Он высвобождается, спрашивает стоящего поблизости санитара:
– Что это значит?
– Койка двадцать шесть, ампутация бедра, – докладывает тот.
– Откуда мне знать, я сегодня пять ампутаций провел! – рявкает врач, отстраняет меня, говорит санитару: – Идите проверьте, – и спешит в операционную.
Дрожа от ярости, я иду с санитаром обратно. Он смотрит на меня:
– Одна операция за другой, с пяти утра… это уж чересчур, скажу я тебе, только сегодня опять шестнадцать смертей… твой семнадцатый. Наверняка до двух десятков дойдет…
Мне становится дурно, я вдруг больше не могу. Даже ругаться неохота, нет смысла, хочется рухнуть и никогда больше не вставать.
Мы у койки Кеммериха. Он мертв. Лицо еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты, желтые, как старые роговые пуговицы…
Санитар толкает меня в бок.
– Вещи его заберешь?
Я киваю, а он продолжает:
– Нам надо сразу его вынести, койка нужна. Они уже в коридоре лежат.
Я забираю вещи, отстегиваю личный знак Кеммериха. Санитар спрашивает солдатскую книжку. Книжки нет. Я говорю, что она, наверно, в канцелярии, и ухожу. За моей спиной они уже перетаскивают Франца на брезент.
За дверьми темнота и ветер – словно избавление. Я дышу изо всех сил, воздух как никогда тепло и мягко обвевает лицо. Внезапно в голове мелькают мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Ноги в сапогах двигаются вперед, я ускоряю шаг, бегу. Мимо идут солдаты, их разговоры будоражат меня, хоть я и не понимаю их смысла. Земля пропитана силами, которые через подошвы вливаются в меня. Ночь электрически потрескивает, фронт глухо громыхает, как барабанный концерт. Мои движения легки и гибки, я чувствую силу суставов, шумно дышу. Ночь живет, я живу. Ощущаю голод, больший, чем тот, что идет только от желудка…
Мюллер стоит у барака, ждет меня. Я отдаю ему сапоги. Мы заходим внутрь, он их примеряет. В самый раз.
Он роется в своих припасах, угощает меня изрядным куском сервелата. И горячим чаем с ромом.
III
Прибыло пополнение. Бреши заполняются, и соломенные тюфяки в бараках скоро уже не пустуют. Отчасти это старики, но к нам направили и двадцать пять человек новобранцев из полевых учебных лагерей. Они почти на год моложе нас. Кропп толкает меня в бок.
– Видал детишек?
Я киваю. Мы напускаем на себя гордый вид, устраиваем во дворе бритвенный сеанс, суем руки в карманы, разглядываем новобранцев и чувствуем себя старыми вояками.
К нам присоединяется Качинский. Прогулочным шагом мы проходим через конюшни и добираемся до пополнения, которому как раз выдают противогазы и кофе. Кач спрашивает одного из самых молоденьких:
– Небось давненько приличной жратвы не пробовали?
Парнишка кривится:
– Утром брюквенный хлеб, в обед брюква, на ужин котлеты из брюквы и салат из брюквы.
Качинский присвистывает с видом знатока:
– Хлеб из брюквы? Вам, ребята, еще повезло, теперь-то его уже из опилок варганят. А как насчет белых бобов, хошь порцию?
Мальчишка краснеет: