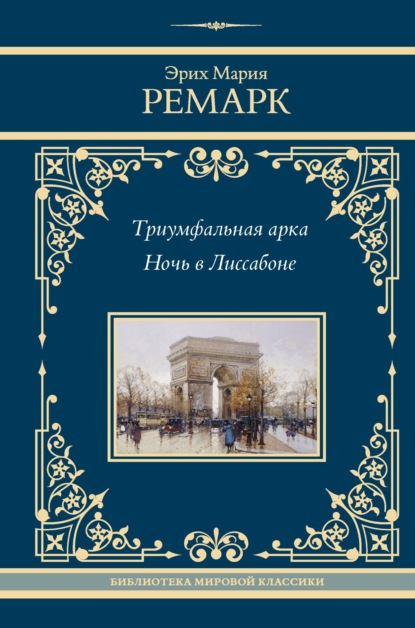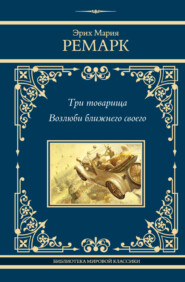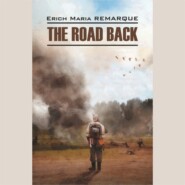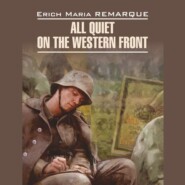По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Триумфальная арка. Ночь в Лиссабоне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но я бы тогда совсем по-другому возмущался, – пояснил шофер, сворачивая на проспект Фоша. – Не с таким удивлением, понимаете?
– Нет. Лучше сбавляйте скорость на перекрестках.
– Да я и сам уже понял. Проклятая жижа на мостовой – все как маслом намазали. Только чего ради вы меня расспрашиваете, если потом сами слушать не хотите?
– Потому что устал, – раздраженно ответил Равич. – Потому что ночь. А еще, если угодно, потому что все мы только искры на ветру жизни. Езжайте.
– Ну, тогда другое дело, – уважительно протянул таксист и даже коснулся пальцами козырька фуражки. – Это я понимаю.
– Послушайте, – спросил Равич, осененный внезапной догадкой, – вы, часом, не русский?
– Нет. Но читаю много, пока пассажиров жду.
«На русских мне, значит, сегодня не везет, – подумал Равич. Он откинулся на спинку сиденья. – Кофе, – пронеслось у него в голове. – Очень горячего, черного. Надеюсь, кофе у них достаточно. Руки. Мне нужны чертовски твердые руки. В случае чего пусть Вебер сделает мне укол. Но все получится. Должно получиться». Он опустил стекло и долго, глубоко вдыхал влажный осенний воздух.
2
В небольшой операционной было светло как днем. Помещение больше всего напоминало сейчас бойню, только стерильную. Вокруг стояли ведра, полные окровавленной ваты, повсюду валялись бинты и тампоны, алые пятна крови в этом царстве медицинской белизны смотрелись вопиющей бестактностью. Вебер сидел в предбаннике за лакированным стальным столом и что-то записывал; его медсестра кипятила инструменты; вода бурлила, яркий свет, казалось, вот-вот зашипит, и только тело, распростертое на операционном столе, было от всего этого как бы отдельно – его уже ничто не трогало.
Равич плеснул себе на ладони жидкого мыла и принялся намыливать руки. Он тер их с таким ожесточением, будто надумал содрать с них кожу.
– Вот гадство! – цедил он сквозь зубы. – Дерьмо собачье!
Медсестра метала в него возмущенные взгляды. Вебер поднял глаза от своих бумаг.
– Спокойно, Эжени! Все хирурги ругаются. Особенно когда дело дрянь. Уж вам-то пора бы знать.
Сестра бросила пригоршню инструментов в кипящую воду.
– Профессор Перье никогда не сквернословил, – возразила она оскорбленным тоном. – И тем не менее спас много жизней.
– Профессор Перье оперировал на мозге. Это, считайте, все равно что точная механика. А наш брат в потрохах копается. Это совсем другое дело. – Вебер захлопнул тетрадь с записями и встал. – Вы хорошо работали, Равич. Но если до тебя приложил руку коновал, тут уж ничего поделать нельзя.
– Да нет. Иногда можно. – Равич вытер руки и закурил. Медсестра с демонстративным неодобрением тут же распахнула форточку.
– Браво, Эжени! – похвалил Вебер. – Все строго по инструкции.
– У меня есть обязанности в жизни. К тому же я вовсе не желаю взлететь на воздух.
– Вот и прекрасно, Эжени. Это успокаивает.
– А вот некоторые вообще без обязанностей живут. И не желают жить иначе.
– Это в ваш огород, Равич, – хохотнул Вебер. – Полагаю, лучше нам исчезнуть. Эжени с утра обычно не в духе. Да и нечего нам тут больше делать.
Равич окинул взглядом операционную. Глянул на медсестру, верную своим обязанностям. Та встретила его взгляд с исступленным бесстрашием. Никелированная оправа очков придавала ее пустому лицу холодную неприступность. А ведь она тоже человек, как и он, но любая деревяшка – и та ему ближе.
– Простите меня, – проговорил он. – Вы совершенно правы.
На белом столе лежало то, что еще пару часов назад было надеждой, дыханием, болью, трепетным биением жизни. Теперь же это был всего лишь никчемный труп – а бездушный человек-автомат в лице медсестры Эжени, страшно гордой тем, что она никогда не совершала ошибок, уже накрыл этот труп простыней и вывозил на каталке. Такие дольше всех живут, подумал Равич, жизнь просто не замечает эти деревянные души, вот и смерть их не берет.
– До свидания, Эжени, – сказал Вебер. – Желаю вам хорошенько отоспаться.
– До свидания, доктор Вебер. Спасибо, господин доктор.
– До свидания, – попрощался Равич. – И простите мне мою ругань.
– Всего хорошего, – ледяным тоном отозвалась Эжени.
Вебер ухмыльнулся:
– Железный характер!
На улице их встретило хмурое утро. По мостовым грохотали мусорные машины. Вебер поднял воротник.
– Ну и погодка! Вас подвезти, Равич?
– Нет, спасибо. Хочу прогуляться.
– В такую погоду? Я правда могу вас подвезти. Нам же почти по дороге.
Равич покачал головой.
– Спасибо, Вебер.
Вебер все еще вопросительно смотрел на него.
– Даже чудно, что вы все еще так переживаете, когда пациент умирает у вас под ножом. Вы ведь уже пятнадцать лет оперируете, должны бы привыкнуть.
– А я и привык. И не переживаю.
Вебер стоял перед ним, дородный, довольный. Его широкая, округлая физиономия светилась румянцем, как нормандское яблоко. В черных, аккуратно подстриженных усиках сияли капельки дождя. Рядом, приткнувшись к тротуару, стоял «бьюик» и тоже сиял. В этом авто Вебер сейчас чинно покатит восвояси, в свой розовый, как игрушка, загородный домик, где его ждут чистенькая жена, тоже сияющая, двое чистеньких, разумеется, сияющих детишек и вообще чистенькая, сияющая жизнь. Такому разве что-нибудь объяснишь, разве расскажешь о том неимоверном напряжении, когда, затаив дыхание, делаешь скальпелем первый разрез, когда в ответ на это усилие из-под лезвия струится первая алая струйка крови, когда тело, послушное движениям крючка и хватке зажимов, раскрывается перед тобой, словно многослойный занавес, высвобождая органы, что никогда еще не видели света, когда сам ты, словно охотник в джунглях, идешь по следу сквозь чащобы поврежденных тканей, сквозь узлы и сращения, все глубже продвигаясь к опухоли, и вдруг, внезапно, оказываешься один на один, с глазу на глаз с великим хищником по имени смерть, и начинается поединок, в котором все твое оружие – только твои инструменты и невероятная твердость руки, – как растолкуешь ему, каково это, что это значит, когда в ослепительную белизну твоей беспредельной сосредоточенности холодом в крови вдруг вторгается черная тень этой вселенской издевки, способной затупить скальпель, сломать иглу, залить свинцом руку, и когда все то незримо трепетное, загадочное, пульсирующее, что звалось жизнью, вдруг утекает из-под твоих бессильных рук, распадается, меркнет, затянутое буруном призрачного, черного, мертвецкого водоворота, до которого тебе не добраться, с которым тебе не совладать; когда лицо человека, у которого только что было дыхание, имя, собственное «я», у тебя на глазах превращается в анонимную застывшую маску – и этот твой яростный, мятежный, но все равно бессмысленный гнев, – ну как, как все это объяснишь и что тут вообще объяснять?
Равич закурил следующую сигарету.
– Двадцать один год ей был, – только и сказал он.
Вебер носовым платком отирал капельки с усов.
– Вы отлично работали. Я бы так не смог. А если не удалось исправить то, что какой-то мясник наворочал, так вашей вины тут нет. Тут по-другому и не рассудишь, иначе куда бы это нас завело…
– Действительно, – отозвался Равич. – Куда бы это нас завело?
Вебер сунул платок обратно в карман.
– К тому же после всего, что вам довелось испытать, у вас, думаю, чертовская закалка.
Равич глянул на него со скрытой усмешкой.
– Нет. Лучше сбавляйте скорость на перекрестках.
– Да я и сам уже понял. Проклятая жижа на мостовой – все как маслом намазали. Только чего ради вы меня расспрашиваете, если потом сами слушать не хотите?
– Потому что устал, – раздраженно ответил Равич. – Потому что ночь. А еще, если угодно, потому что все мы только искры на ветру жизни. Езжайте.
– Ну, тогда другое дело, – уважительно протянул таксист и даже коснулся пальцами козырька фуражки. – Это я понимаю.
– Послушайте, – спросил Равич, осененный внезапной догадкой, – вы, часом, не русский?
– Нет. Но читаю много, пока пассажиров жду.
«На русских мне, значит, сегодня не везет, – подумал Равич. Он откинулся на спинку сиденья. – Кофе, – пронеслось у него в голове. – Очень горячего, черного. Надеюсь, кофе у них достаточно. Руки. Мне нужны чертовски твердые руки. В случае чего пусть Вебер сделает мне укол. Но все получится. Должно получиться». Он опустил стекло и долго, глубоко вдыхал влажный осенний воздух.
2
В небольшой операционной было светло как днем. Помещение больше всего напоминало сейчас бойню, только стерильную. Вокруг стояли ведра, полные окровавленной ваты, повсюду валялись бинты и тампоны, алые пятна крови в этом царстве медицинской белизны смотрелись вопиющей бестактностью. Вебер сидел в предбаннике за лакированным стальным столом и что-то записывал; его медсестра кипятила инструменты; вода бурлила, яркий свет, казалось, вот-вот зашипит, и только тело, распростертое на операционном столе, было от всего этого как бы отдельно – его уже ничто не трогало.
Равич плеснул себе на ладони жидкого мыла и принялся намыливать руки. Он тер их с таким ожесточением, будто надумал содрать с них кожу.
– Вот гадство! – цедил он сквозь зубы. – Дерьмо собачье!
Медсестра метала в него возмущенные взгляды. Вебер поднял глаза от своих бумаг.
– Спокойно, Эжени! Все хирурги ругаются. Особенно когда дело дрянь. Уж вам-то пора бы знать.
Сестра бросила пригоршню инструментов в кипящую воду.
– Профессор Перье никогда не сквернословил, – возразила она оскорбленным тоном. – И тем не менее спас много жизней.
– Профессор Перье оперировал на мозге. Это, считайте, все равно что точная механика. А наш брат в потрохах копается. Это совсем другое дело. – Вебер захлопнул тетрадь с записями и встал. – Вы хорошо работали, Равич. Но если до тебя приложил руку коновал, тут уж ничего поделать нельзя.
– Да нет. Иногда можно. – Равич вытер руки и закурил. Медсестра с демонстративным неодобрением тут же распахнула форточку.
– Браво, Эжени! – похвалил Вебер. – Все строго по инструкции.
– У меня есть обязанности в жизни. К тому же я вовсе не желаю взлететь на воздух.
– Вот и прекрасно, Эжени. Это успокаивает.
– А вот некоторые вообще без обязанностей живут. И не желают жить иначе.
– Это в ваш огород, Равич, – хохотнул Вебер. – Полагаю, лучше нам исчезнуть. Эжени с утра обычно не в духе. Да и нечего нам тут больше делать.
Равич окинул взглядом операционную. Глянул на медсестру, верную своим обязанностям. Та встретила его взгляд с исступленным бесстрашием. Никелированная оправа очков придавала ее пустому лицу холодную неприступность. А ведь она тоже человек, как и он, но любая деревяшка – и та ему ближе.
– Простите меня, – проговорил он. – Вы совершенно правы.
На белом столе лежало то, что еще пару часов назад было надеждой, дыханием, болью, трепетным биением жизни. Теперь же это был всего лишь никчемный труп – а бездушный человек-автомат в лице медсестры Эжени, страшно гордой тем, что она никогда не совершала ошибок, уже накрыл этот труп простыней и вывозил на каталке. Такие дольше всех живут, подумал Равич, жизнь просто не замечает эти деревянные души, вот и смерть их не берет.
– До свидания, Эжени, – сказал Вебер. – Желаю вам хорошенько отоспаться.
– До свидания, доктор Вебер. Спасибо, господин доктор.
– До свидания, – попрощался Равич. – И простите мне мою ругань.
– Всего хорошего, – ледяным тоном отозвалась Эжени.
Вебер ухмыльнулся:
– Железный характер!
На улице их встретило хмурое утро. По мостовым грохотали мусорные машины. Вебер поднял воротник.
– Ну и погодка! Вас подвезти, Равич?
– Нет, спасибо. Хочу прогуляться.
– В такую погоду? Я правда могу вас подвезти. Нам же почти по дороге.
Равич покачал головой.
– Спасибо, Вебер.
Вебер все еще вопросительно смотрел на него.
– Даже чудно, что вы все еще так переживаете, когда пациент умирает у вас под ножом. Вы ведь уже пятнадцать лет оперируете, должны бы привыкнуть.
– А я и привык. И не переживаю.
Вебер стоял перед ним, дородный, довольный. Его широкая, округлая физиономия светилась румянцем, как нормандское яблоко. В черных, аккуратно подстриженных усиках сияли капельки дождя. Рядом, приткнувшись к тротуару, стоял «бьюик» и тоже сиял. В этом авто Вебер сейчас чинно покатит восвояси, в свой розовый, как игрушка, загородный домик, где его ждут чистенькая жена, тоже сияющая, двое чистеньких, разумеется, сияющих детишек и вообще чистенькая, сияющая жизнь. Такому разве что-нибудь объяснишь, разве расскажешь о том неимоверном напряжении, когда, затаив дыхание, делаешь скальпелем первый разрез, когда в ответ на это усилие из-под лезвия струится первая алая струйка крови, когда тело, послушное движениям крючка и хватке зажимов, раскрывается перед тобой, словно многослойный занавес, высвобождая органы, что никогда еще не видели света, когда сам ты, словно охотник в джунглях, идешь по следу сквозь чащобы поврежденных тканей, сквозь узлы и сращения, все глубже продвигаясь к опухоли, и вдруг, внезапно, оказываешься один на один, с глазу на глаз с великим хищником по имени смерть, и начинается поединок, в котором все твое оружие – только твои инструменты и невероятная твердость руки, – как растолкуешь ему, каково это, что это значит, когда в ослепительную белизну твоей беспредельной сосредоточенности холодом в крови вдруг вторгается черная тень этой вселенской издевки, способной затупить скальпель, сломать иглу, залить свинцом руку, и когда все то незримо трепетное, загадочное, пульсирующее, что звалось жизнью, вдруг утекает из-под твоих бессильных рук, распадается, меркнет, затянутое буруном призрачного, черного, мертвецкого водоворота, до которого тебе не добраться, с которым тебе не совладать; когда лицо человека, у которого только что было дыхание, имя, собственное «я», у тебя на глазах превращается в анонимную застывшую маску – и этот твой яростный, мятежный, но все равно бессмысленный гнев, – ну как, как все это объяснишь и что тут вообще объяснять?
Равич закурил следующую сигарету.
– Двадцать один год ей был, – только и сказал он.
Вебер носовым платком отирал капельки с усов.
– Вы отлично работали. Я бы так не смог. А если не удалось исправить то, что какой-то мясник наворочал, так вашей вины тут нет. Тут по-другому и не рассудишь, иначе куда бы это нас завело…
– Действительно, – отозвался Равич. – Куда бы это нас завело?
Вебер сунул платок обратно в карман.
– К тому же после всего, что вам довелось испытать, у вас, думаю, чертовская закалка.
Равич глянул на него со скрытой усмешкой.