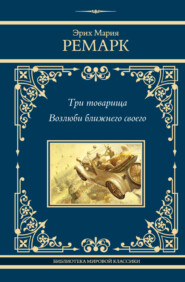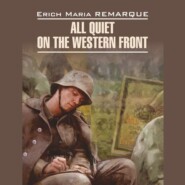По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тени в раю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Божественно! – вздохнула девушка, осушив стопку залпом.
Я чувствовал себя довольно глупо, отказавшись от рюмки, но передумывать поздно.
– Еще по одной? – спросил Меликов, поднимая бутылку.
– Мерси, Владимир Петрович. Достаточно. Мне пора. – Она протянула мне руку. – Au revoir, monsieur[3 - До свидания, месье (фр.).].
А у нее крепкое рукопожатие.
– Au revoir, madame[4 - До свидания, мадам (фр.).].
Проводив ее, Меликов вернулся.
– Что, разозлился? – спросил он.
– Нет!
– Не обращай внимания. Она всех злит. Но не нарочно.
– Так она не русская?
– Русская. Но родилась во Франции. А что?
– Я одно время квартировал у русских. И заметил, что у их женщин прямо страсть цепляться к мужчинам. Обычай, что ли, такой?
Меликов снова ухмыльнулся.
– Да ладно тебе! И, кстати, что плохого, если мужчину чуток расшевелить? Все лучше, чем по утрам доблестно надраивать благоверному пуговицы на мундире и сапоги до блеска, которыми он потом ручонки еврейских детишек будет топтать!
Я вскинул руки.
– Сдаюсь! Сегодня, похоже, для эмигрантов не самый удачный день. Налей-ка мне лучше стопку, от которой я только что имел глупость отказаться.
– Ну и отлично! – Меликов вдруг прислушался. – А вот и они.
На лестнице послышались шаги. И тут же до меня донеслось удивительно глубокое, мелодичное контральто. Это была пуэрториканка, а с ней и Лахман. Она шла впереди, нисколько не беспокоясь, поспевает ли за ней хромоногий спутник. Сама она не хромала, и вообще было незаметно, что она на протезе.
– За мексиканцем отправились, – шепнул Меликов.
– Бедняга Лахман, – посочувствовал я.
– Бедняга? – изумился Меликов. – Да кто ж его заставляет желать несбыточного!
Я хмыкнул.
– Единственное, что невозможно потерять, верно?
– По-моему, бедняга лишь тот, кто уже ничего не желает.
– Да ну? – усомнился я. – А я-то полагал, только тут и приходит мудрость.
– Вот уж не думаю. И вообще – что с тобой сегодня? Может, женщина нужна?
– Нет. Просто позволяю себе распуститься, когда очередная опасность позади, – с усмешкой ответил я. – Свою молодость вспомни, сразу все и поймешь.
– Мы в те годы всегда вместе, всегда заодно держались. А тебе до других эмигрантов, похоже, и дела нет.
– Ничего не хочу вспоминать.
– И в этом все дело?
– Не хочу замыкаться в эмигрантском кругу, в этой незримой тюряге. Мне этого в Европе за глаза хватило.
– Американцем, значит, хочешь стать?
– Никем я не хочу стать, я хочу наконец-то хоть кем-то быть. Если мне, конечно, позволят.
– Это все словеса…
– Надо же хоть чем-то себя взбодрить, – сказал я. – За меня этого никто не сделает.
Мы еще сыграли партию в шахматы. Я проиграл. Ближе к ночи в гостиницу стали возвращаться постояльцы, и работы у Меликова заметно прибавилось: надо было выдавать ключи, разносить по комнатам бутылки и сигареты. Я тупо сидел в холле. И в самом деле, что со мной такое? Я вдруг решил объявить Меликову, что пора мне наконец снять для себя отдельную комнату. Хотя и сам толком не знал, с какой стати: вроде бы мы друг другу не мешаем, а Меликову, кажется, вообще все равно, у него в каморке я ночую или где-то еще. Но мне почему-то это стало не все равно, захотелось попробовать, смогу ли я снова спать один в четырех стенах. На Эллис Айленде всем полагалось ночевать в спальном зале, да и во французском лагере для интернированных расклад был не лучше. Одно я знал точно: как только поселюсь в отдельной комнате, сразу начну вспоминать времена, о которых мечтаю забыть. Но делать нечего, нельзя же убегать от собственной памяти всю жизнь.
III
C братьями Леви я познакомился в тот волшебный час, когда косые лучи заходящего солнца еще заливают медовым светом витрины антикварных лавок по правую сторону улицы, тогда как окна на другой стороне уже подернулись паутиной вечерних сумерек. То был час, когда и окна, и витрины начинали жить своей особой, заемной, обманчивой жизнью отраженного света, подобно намалеванному циферблату над лавкой оптика, что дважды в сутки на какие-то секунды своим нарисованным временем совпадает с реальным. Я толкнул дверь магазинчика; один из братьев Леви – тот, что рыжий, – словно рыба в аквариуме выплыл из-за прилавка, поморгал, чихнул, щурясь на золотистый закат, снова чихнул и лишь после этого соизволил заметить меня – зачарованного зеваку, наблюдающего, как витрина его антикварной лавки превращается в пещеру Аладдина.
– Дивный вечерок, – заметил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
Я кивнул.
– И бронза у вас дивная.
– Подделка, – пренебрежительно бросил он.
– Значит, она не ваша?
– Это почему же?
– Ну, раз вы сами признаете, что она подделка.
– Я говорю, что эта бронза подделка, потому что она подделка.
– Такая откровенность дорогого стоит, – заметил я. – Особенно из уст продавца.
Леви снова чихнул, снова поморгал, потом чихнул еще раз.
– Я покупал ее как подделку, как подделку и продаю. У нас тут все без обмана!