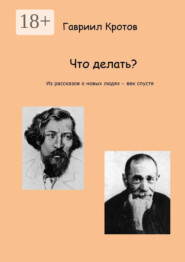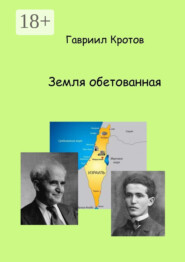По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три поколения. Художественная автобиография (первая половина ХХ века)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот умру, так будешь знать.
Тут же я получал добавку, гораздо больше, чем основное наказание. Но, спустя несколько минут, она прижимала меня к груди и плакала больше моего.
– Бесчувственный ты растёшь. Не понимаешь, как тяжело мне. Разве я смерти вам желаю? Хочу, чтобы хорошими вы выросли.
Любили ли мы маму? Этого вопроса мы не ставили перед собой. Мама есть мама, и без неё невозможна какая-либо жизнь. Всё держится на ней, иначе маячит сиротская жизнь, а что это такое мы знали. Вообще, авторитет мамы не подвергался сомнению.
Тяжело было наблюдать, когда она садилась за стол, закрывала лицо руками и без видимых для нас причин начинала плакать. Мы не лезли к ней и не пытались утешать, но чувствовали себя чем-то виноватыми. Слёзы эти кончались чаще всего словами:
– Господи, доколе будешь с нами, доколе будешь терпеть нас?!..
После чего она умывала лицо и снова принималась за работу.
Иногда мама, окончив работу, уходила вечером в город на несколько часов. Настя, утомлённая вознёй с детьми и мелкой домашней работой, ложилась спать вместе с младшими, а мне поручала «домовничать», то есть ждать прихода матери. Как только уходила мама, я тотчас ставил два чугуна воды в печь и приступал к уборке. Протирал самые дальние уголки, изгоняя пыль, паутину, плесень, перемывал посуду, чистил кастрюли, колыванки, корчаги, мыл полы, стол, лавки, торопясь закончить работу к приходу мамы. И, как ни в чём не бывало, садился за книжку.
Мать чаще всего приходила расстроенная и тотчас ложилась спать, а утром целовала меня сонного и говорила:
– Опять ты мне подарочек приготовил, хлопотун ты мой. Спасибо, родной, что жалеешь маму.
Это была самая высшая награда.
Свой день рождения мама не разрешала праздновать. И этот день ничем не отличался от обычных трудовых будней. Всё шло своим чередом. Но мы готовились к нему сами. Малыши вечером подносили букеты полевых и садовых цветов, а мы с Настей дарили, сколько я помню, очередную чашку с блюдцем. Мама принимала подарок и тут же требовала отчёта в каждой копейке: здесь была и проданная мной рыба (мой улов) на 3—5—8 копеек, Настя домовничала у соседки, получала 5—10 копеек, подносила барыне покупки – 3—5 копеек, так складывались 1 р. 20 или 1 р. 50. Получив отчёт, мама разрешала ставить самовар, и начинался пир всей семьей, во время которого за столом разрешалось даже шуметь, и колотушки сводились до минимума.
Клавдия Михайловна. 1916 год.
Уютный уголок детства
Зимой мы все спали на широкой русской печке. Моё место было с края, около трубы. Здесь, между стеной и трубой и был самый уютный уголок моей жизни.
От трубы шел выступ в два кирпича, задвижка была удобной полочкой для светильника. Когда все засыпали, я зажигал светильник – глиняное блюдечко, наполненное постным маслом, в котором помещался фитиль из тряпочки. Ставил свой светильник на ручку задвижки и доставал книгу.
Было тихо. Храпение, сонное бормотание, треск сверчка и даже завывание ветра в трубе не воспринимались слухом, а печь, по щучьему веленью, отправляла меня в далёкие времена Ивана Грозного, по пути князя Серебряного, Ермака Тимофеевича, или на римские триеры с книгою «Во дни оны»[6 - «Во дни оны (Бен-Гур)»: книга американского писателя Лью Уоллеса.], или в катакомбы ранних христиан, или на арену цирка времён Нерона с книгою «Камо грядеши» Сенкевича.
Здесь со слезами горячих чувств были прочитаны мной полные страстной убеждённости произведения Некрасова, его «Дедушка», «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо». Я не глотал книги, не читал их запоем. Прочитав самое интересное место, я прекращал чтение и пытался представить себе образ или картину. Передо мной, как живой, появлялся Саша, глядящий на портрет деда. Вот приезжает дед, сын моет ему ноги. Я видел, как Саша встает на скамейку лодки и показывает, какой он уже большой. Представлял себе встречу в руднике. Свет поганца и плотный мрак ночи делали картину реальной до осязаемости. Слышал звон цепей на запачканных глиной декабристах, чистую княгиню Волконскую, которая
Прежде чем мужа обнять,
Губы к цепям приложила…[7 - Из поэмы Н. Некрасова «Русские женщины».]
Вспоминал звон цепей отца, его цепи, перекинутые мне через голову. Наверное, и Волконский так же перекинул цепи, чтобы обнять жену.
Иногда я отодвигал книгу и чувствовал себя капитаном Немо или Карлом Моором и развивал действия, применяя их к своей жизни и обстановке. Вот я строю замок в горах – и… Сколько раз давал я возможность торжествовать справедливости!..
Иногда книга овладевала мной на несколько дней, а иногда и на всю жизнь.
Так повесть о солдате Даниле заставила меня дать клятву, что я буду таким же.
Книги были разнообразны. Здесь был и отважный Монтезумо, сражавшийся с кровавым Кортецом, здесь был и малыш Додэ. Здесь были и ребенок с печальной душой – лорд Фаунтлерой, и Пип из «Больших ожиданий» Диккенса. Книги, заглавия которых я забыл, но содержание помню не как текст, а как событие жизни, потому что переживал их, может быть, даже больше, чем личные происшествия.
Нередко мама заставала меня за чтением (она вставала очень рано). Она не ругала меня, а спрашивала о прочитанном и разделяла мои переживания, но потом спохватывалась и говорила решительно:
– Ну, спи.
Это был приказ, не выполнить который в семье считалось преступлением.
Рассказ о солдате Даниле
Из сборника Михеева
В селе Гнилая Падь – переполох. Надо отправить в рекруты юношу. Но кого? Богатого обидеть опасно, забрать из дома кормильца – совестно. Единодушно решили послать пастушонка Данилу. С раннего детства жил он сиротой, переходя из дома в дом, потом работал подпаском, а с восемнадцати лет стал общественным пастухом.
Жил он одиноким бобылем. Кому же, как не ему, было идти в солдаты. Сама справедливость требовала, чтобы Данилко отблагодарил мир за хлеб-соль.
И пошёл Данилко в солдаты.
Через пятнадцать лет вернулся Данилко обратно. В Крымской войне пулей разбило ему правую ногу, и был он уволен вчистую. Вернулся он чужим и незнакомым человеком. В первое же воскресенье явился в церковь в потёртой солдатской шинели, не пошёл к амвону, а встал у самого входа и, не крестясь, простоял всю службу.
Вскоре завёл Данило своё хозяйство. И чудное дело. Где люди снимали урожая мешок, у Данилы был воз. Дадут ему новый надел – та же история. Появился у него диковинный сад, чудесный огород, скот у него был особый, даже курицы и гуси крупнее с виду.
И утвердилась в селе молва, что солдат Данило колдун, что продал он душу нечистому и за то получает от чёрта все блага.
Сперва чурались крестьяне солдата Данилу. Пробовали говорить с ним, но он плёл такое несуразное, что слушать было непонятно, вроде умом человек тронутый.
Но те, кому надоела голодная жизнь, встречали тайком солдата Данилу и просили помочь наладить жизнь, чтоб семью из голода вывести, соглашались даже душу нечистому продать. Каждому он говорил:
– Приходи ко мне в понедельник 13 числа после первых петухов. Зайдёшь в комнату, ничего не бойся, если услышишь что или почувствуешь в комнате кого-то. Зла тебе не сделают, а страх побори.
Идёт мужик тайком, чтобы никто не заметил, – как велел Данило. Заходит в комнату, а там дом полон бесами, шевелятся по углам, ходят по комнате, то и дело дверью хлопают.
Но вот открылась дверь горницы, и из неё вышел человек в офицерском мундире, с офицерской саблей и с четырьмя георгиевскими крестами. В обеих руках он держал по подсвечнику с зажжёнными свечами и по мешку.
При свете свечей увидал мужик, что почти всё село собралось в комнате у солдата Данилы. Стыдно им стало, впору уходить, но любопытно знать, что дальше будет. Пригляделись они к офицеру и видят, что это никто иной, как солдат Данило.
Поставил он свечи по краям стола, а на середину высыпал из мешков золотые монеты. Блестит золото, переливается, дразнит мужицкую зависть.
Сказал солдат Данило:
– Много я повидал народов и стран, многому научился у добрых людей, много послужил отечеству и ещё крепче полюбил родную землю.
Пришли вы ко мне продать душу нечистому, совершить великий грех. Не жадность, а нужда заставила вас сделать это. Но нет надобности продавать душу. Наоборот, надо очистить её от ваших скверн, и будете вы богаты.
Вот перед вами 1000 рублей. Если дадите вы мне великую клятву и соблюдете её семь лет, то каждый из вас через семь лет принесёт сюда столько же денег и наладит своё хозяйство.
И произнесли мужики великую клятву-семерик, что отныне на семь лет не будут они:
1 – Пить ничего хмельного, ни на праздник, ни в горе, ни в радости, ни в гостях, ни в трактире, ни за деньги, ни принимать угощения.
2 – За семь лет не обидят они ближнего ни ударом, ни грубым словом; ни дитя малое, ни жену свою, ни соседа своего, ни своего односельчанина, ни встречного, ни прохожего.