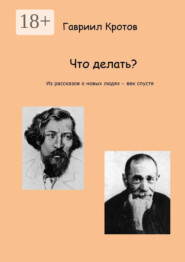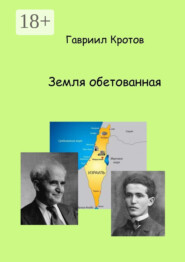По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мы будем вместе. Письма с той войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С родными не живу с 1926 года.
Милая Муся, ты пишешь, что мечтаешь о том чудесном будущем, которое ждёт нас. Только боюсь, не «алые паруса» видишь ли ты. Я не представляю ещё деталей этого будущего, но имею для него твёрдый фундамент: любовь и желание. А остальное будет слагаться из условий и возможностей.
Если Ткаченко даёт детколонию, будет одно, если хозяйство – другое, но храни бог – оперативную работу, тогда я смогу обеспечить тебе только «ловкую горничную». Если ты пожелаешь окончить университет, программа одна, если я буду воевать ещё зиму, вообще программы не будет. Если останусь инвалидом, Гани не будет. Если демобилизуюсь… Но тут я не знаю, что и делать. Еду в Москву к Семёну, и там будет хорошая работка.
А как ты представляешь?
Я знаю, что наша жизнь будет слагаться из простого уюта, любимой захватывающей работы, общей работы, хороших друзей и НАС. С этими данными программа будет хорошей.
Ты спрашиваешь, какая есть латинская пословица, дающая тебе право делать мне любые замечания. Кажется, такая: «Что подобает Музе, не позволено Марии» (на лат.). А Мусе можно всё. Самый сильный мужчина нуждается в хорошем влиянии женщины.
За «жену», написанную в справке, не обижайся. Это – форма. Но:
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что милых так не называют.[38 - Парафраз из стихотворения Константина Симонова.]
Ради всего святого, не посчитай это за право на твою личность. И всегда имей лист белой бумаги, но слать его не торопись. Останься моим огоньком.
Твой шибко умный Ганя
P.S. Так или иначе, но поблагодари Ольгу Семёновну за её отношение к моим письмам.
Целую Галку.
Вот вам мальчик, ловко рисует, учить его надобно
(без даты)
Итак, военком Королёв обнаружил у меня талант художника. Решил везти меня в Омск, в Художественно-техническое училище (очень почтенное заведение). Отец согласился, мать со слезами проводила меня, проболев около месяца.
Мы в пути. Меняем лошадей. Вид Королёва внушителен: маузер №4, серебряная шашка, целая шлея из ремней («он весь увешан был ремнями»). Проехали Семипалатинск, вот Новониколаевск (Новосибирск) – захолустный городок, ещё не исчезли жуткие картины войны и разрухи. Все поля опутаны колючей проволокой, под откосами лежат вагоны эшелонов, мёрзлые трупы, трупы без конца. Навстречу попадаются измождённые, голодные, тифозные люди, почти беззвучно просят хлеба.
Омск. Первое, что бросилось мне в глаза, – взорванный железнодорожный мост. Высокие дома, красивые улицы – и трупы тифозных. Мы остановились в доме знакомого отцу баптиста Волгина…
Наконец мы подходим к великолепному (для меня) зданию ХТУ. Обширные комнаты пусты. В конце коридора, в маленькой комнатке, директор. В нескольких комнатах идут занятия.
– Кто главный? – спрашивает Королёв.
Пожилой, обрюзгший, заросший седой щетиной человек устало поднял глаза. Увидев фигуру Королёва (очевидно, поразившую его своей художественной внушительностью), он вскочил, как на пружинах, кинулся подать ему кресло, проявляя при этом такую подвижность, которой могла позавидовать мышь.
– Вот вам мальчик, ловко рисует, сукин сын, учить его надобно.
– Очень рад (сильнейший немецкий акцент).
– Гаврюшка, покажи рисунки!
Из-за пазухи был извлечён свёрток потрёпанных, мятых бумаг, покрытых мазнёй, которую трудно принять за рисунки. Но Шнель внимательно рассмотрел их, брезгливо отставив пальцы.
– Наше училище принимает учащихся, имеющих ценз образования не ниже гимназии. Ваш сын, наверное, не совсем подготовлен.
– Так выходит, что вы тут буржуйских сынков учите, а наш брат, значит, как копался в земле, так и копаться должен. Так получается?
Шнель, несколько раз переменив цвет лица, уверил, что он не думал отказать, что он займётся с этим «понятливый мальчик».
Так нелепо, в конце первой четверти, я был втиснут в училище.
Боже, какая это была мука! Слабые знания, плохая подготовка и навыки, говор сибирского диалекта в среде гимназистов, учителей, которые открыто проповедовали контрреволюцию, задевая самое больное место моей души. Но свет не без добрых людей. Скоро я сблизился с бедняками-учащимися, ушёл от баптиста, поселился в маленьком домике одного из товарищей. Они учили меня.
Что могли дать мне эти два года? Но они дали многое. Они – эти годы, город, люди, книги и горячие споры молодёжи, среди которых вспыхивали идеи, обжигавшие мозг, вызывавшие желание работать.
Вернувшись на летние каникулы (год 1924), я остался пионервожатым и отдался этому делу всем пылом своей души. По летам я мало отличался от своих питомцев, в прошлом мы вместе галок зорили, жарили сусликов, воровали арбузы, но я многое уже видел и больше их знал. Работу я проводил по-своему: уезжая с ребятами в ночное (пастьба коней), рассказывал о том, что читал, видел и чему верил. 4—5 лет возрастного различия давали мне перевес и авторитет. Девчат я организовать не мог (да и не хотел), но вскоре подружился с дочерью учительницы Фаей Дубининой, более образованной. Мы стали друзьями. Я помог ей вступить в РКСМ, и работа пошла лучше.
Я по-прежнему помогал семье и любил работу, но Фая стыдилась меня и… Я сдался, мне стал казаться зазорным труд и мой незатейливый костюм. Словом, я приблизился к юношескому возрасту.
Продолжение следует.
Нервы у тебя девичьи, а организм медвежий
(без даты)
Фаина Вячеславовна была старше меня на 4 года. Она училась в педтехникуме, и её дружба была очень полезной мне. Организовать детей она не могла, но сумела работу вложить в определённый план и придать ей систему. Вскоре мы имели больше ста пионеров, организовали парк, библиотеку, клуб.
Осенью поступил в Педтехникум. Учение охватило меня. В комсомоле считали меня «отцом» деткомдвижения. Это болезненно льстило моему самолюбию и… приятно кружило голову.
В это же время, под влиянием преподавателя литературы Иванцова, мной овладела страсть к рифмам. Написал несколько приблизительно удачных стихотворений. Даже пробовал писать поэмы «Война» и «Мать». Из «Войны» Иванцов вычеркнул всё, за исключением одного:
Под звуки песни удалой
Гуляет парень молодой,
И крепко спит старик седой,
Укрывшись влажною травой…
«Мать» была более благосклонно разобрана, но надежд на славу оставалось мало. Начиналась она так:
Когда я начал жизнь ругать,
Подавленный тоской,
Святое слово – слово «мать» —
Я осквернил собой.
Тебя, кормилица моя,
Похабщиной покрыл,
Но тут же вспомнил я тебя…
И так строк на восемьсот.
Педтехникум издавал литературно-художественный журнал. Материал я перепечатывал в УО ГПУ[39 - Уездный отдел Государственного политического управления при НКВД РСФСР.]. Познакомился с начальницей ГПУ Ольгой Л. и… влюбился в эту тридцатилетнюю женщину. В ней соединялась женская красота с исключительной силой воли, энергией и обаянием. Я не говорю об её уме, о её змеиной мудрости. Она любила меня как «подающего надежды», учила работать, стаскивала с заоблачных высот, снимала панцирь эрудиции с людей, перед которыми я преклонялся, учила видеть человека там, где его трудно было заметить. Это был умный Мефистофель. Когда меня незаслуженно обидели в РКСМ и я пожаловался ей, она отругала меня за то, что я пришёл ей жаловаться, а не сообщать о том, что я победил.
Первая безнадёжная любовь.
Осенью 1924 года мы с отцом и матерью пришли домой с клубной постановки, где я играл бородатого крестьянина. Моя великолепная борода была «намертво» приклеена столярным клеем. В ожидании ужина и самовара (горячая вода для туалета) мы с отцом просматривали газеты. Вдруг раздался оглушительный выстрел. Я погасил лампу, опасаясь повторного выстрела. Отец был ранен. Пуля пробила бицепс правой руки, скользнула по брюшному прессу и пробила мышцы левой ноги. Можно было ожидать поджога. Я, взяв свой браунинг, вылез через пол сеней и созвал коммунистов села, а сам поехал верхом в ГПУ. Рогачёв меня не узнал. Наконец с отрядом и доктором мы вернулись домой. Стрелявший Ч. скрылся. Отцу было предложено переехать в другой город, но он отказался: «Что, бежать?!».
Милая Муся, ты пишешь, что мечтаешь о том чудесном будущем, которое ждёт нас. Только боюсь, не «алые паруса» видишь ли ты. Я не представляю ещё деталей этого будущего, но имею для него твёрдый фундамент: любовь и желание. А остальное будет слагаться из условий и возможностей.
Если Ткаченко даёт детколонию, будет одно, если хозяйство – другое, но храни бог – оперативную работу, тогда я смогу обеспечить тебе только «ловкую горничную». Если ты пожелаешь окончить университет, программа одна, если я буду воевать ещё зиму, вообще программы не будет. Если останусь инвалидом, Гани не будет. Если демобилизуюсь… Но тут я не знаю, что и делать. Еду в Москву к Семёну, и там будет хорошая работка.
А как ты представляешь?
Я знаю, что наша жизнь будет слагаться из простого уюта, любимой захватывающей работы, общей работы, хороших друзей и НАС. С этими данными программа будет хорошей.
Ты спрашиваешь, какая есть латинская пословица, дающая тебе право делать мне любые замечания. Кажется, такая: «Что подобает Музе, не позволено Марии» (на лат.). А Мусе можно всё. Самый сильный мужчина нуждается в хорошем влиянии женщины.
За «жену», написанную в справке, не обижайся. Это – форма. Но:
Мне хочется назвать тебя женой
За то, что милых так не называют.[38 - Парафраз из стихотворения Константина Симонова.]
Ради всего святого, не посчитай это за право на твою личность. И всегда имей лист белой бумаги, но слать его не торопись. Останься моим огоньком.
Твой шибко умный Ганя
P.S. Так или иначе, но поблагодари Ольгу Семёновну за её отношение к моим письмам.
Целую Галку.
Вот вам мальчик, ловко рисует, учить его надобно
(без даты)
Итак, военком Королёв обнаружил у меня талант художника. Решил везти меня в Омск, в Художественно-техническое училище (очень почтенное заведение). Отец согласился, мать со слезами проводила меня, проболев около месяца.
Мы в пути. Меняем лошадей. Вид Королёва внушителен: маузер №4, серебряная шашка, целая шлея из ремней («он весь увешан был ремнями»). Проехали Семипалатинск, вот Новониколаевск (Новосибирск) – захолустный городок, ещё не исчезли жуткие картины войны и разрухи. Все поля опутаны колючей проволокой, под откосами лежат вагоны эшелонов, мёрзлые трупы, трупы без конца. Навстречу попадаются измождённые, голодные, тифозные люди, почти беззвучно просят хлеба.
Омск. Первое, что бросилось мне в глаза, – взорванный железнодорожный мост. Высокие дома, красивые улицы – и трупы тифозных. Мы остановились в доме знакомого отцу баптиста Волгина…
Наконец мы подходим к великолепному (для меня) зданию ХТУ. Обширные комнаты пусты. В конце коридора, в маленькой комнатке, директор. В нескольких комнатах идут занятия.
– Кто главный? – спрашивает Королёв.
Пожилой, обрюзгший, заросший седой щетиной человек устало поднял глаза. Увидев фигуру Королёва (очевидно, поразившую его своей художественной внушительностью), он вскочил, как на пружинах, кинулся подать ему кресло, проявляя при этом такую подвижность, которой могла позавидовать мышь.
– Вот вам мальчик, ловко рисует, сукин сын, учить его надобно.
– Очень рад (сильнейший немецкий акцент).
– Гаврюшка, покажи рисунки!
Из-за пазухи был извлечён свёрток потрёпанных, мятых бумаг, покрытых мазнёй, которую трудно принять за рисунки. Но Шнель внимательно рассмотрел их, брезгливо отставив пальцы.
– Наше училище принимает учащихся, имеющих ценз образования не ниже гимназии. Ваш сын, наверное, не совсем подготовлен.
– Так выходит, что вы тут буржуйских сынков учите, а наш брат, значит, как копался в земле, так и копаться должен. Так получается?
Шнель, несколько раз переменив цвет лица, уверил, что он не думал отказать, что он займётся с этим «понятливый мальчик».
Так нелепо, в конце первой четверти, я был втиснут в училище.
Боже, какая это была мука! Слабые знания, плохая подготовка и навыки, говор сибирского диалекта в среде гимназистов, учителей, которые открыто проповедовали контрреволюцию, задевая самое больное место моей души. Но свет не без добрых людей. Скоро я сблизился с бедняками-учащимися, ушёл от баптиста, поселился в маленьком домике одного из товарищей. Они учили меня.
Что могли дать мне эти два года? Но они дали многое. Они – эти годы, город, люди, книги и горячие споры молодёжи, среди которых вспыхивали идеи, обжигавшие мозг, вызывавшие желание работать.
Вернувшись на летние каникулы (год 1924), я остался пионервожатым и отдался этому делу всем пылом своей души. По летам я мало отличался от своих питомцев, в прошлом мы вместе галок зорили, жарили сусликов, воровали арбузы, но я многое уже видел и больше их знал. Работу я проводил по-своему: уезжая с ребятами в ночное (пастьба коней), рассказывал о том, что читал, видел и чему верил. 4—5 лет возрастного различия давали мне перевес и авторитет. Девчат я организовать не мог (да и не хотел), но вскоре подружился с дочерью учительницы Фаей Дубининой, более образованной. Мы стали друзьями. Я помог ей вступить в РКСМ, и работа пошла лучше.
Я по-прежнему помогал семье и любил работу, но Фая стыдилась меня и… Я сдался, мне стал казаться зазорным труд и мой незатейливый костюм. Словом, я приблизился к юношескому возрасту.
Продолжение следует.
Нервы у тебя девичьи, а организм медвежий
(без даты)
Фаина Вячеславовна была старше меня на 4 года. Она училась в педтехникуме, и её дружба была очень полезной мне. Организовать детей она не могла, но сумела работу вложить в определённый план и придать ей систему. Вскоре мы имели больше ста пионеров, организовали парк, библиотеку, клуб.
Осенью поступил в Педтехникум. Учение охватило меня. В комсомоле считали меня «отцом» деткомдвижения. Это болезненно льстило моему самолюбию и… приятно кружило голову.
В это же время, под влиянием преподавателя литературы Иванцова, мной овладела страсть к рифмам. Написал несколько приблизительно удачных стихотворений. Даже пробовал писать поэмы «Война» и «Мать». Из «Войны» Иванцов вычеркнул всё, за исключением одного:
Под звуки песни удалой
Гуляет парень молодой,
И крепко спит старик седой,
Укрывшись влажною травой…
«Мать» была более благосклонно разобрана, но надежд на славу оставалось мало. Начиналась она так:
Когда я начал жизнь ругать,
Подавленный тоской,
Святое слово – слово «мать» —
Я осквернил собой.
Тебя, кормилица моя,
Похабщиной покрыл,
Но тут же вспомнил я тебя…
И так строк на восемьсот.
Педтехникум издавал литературно-художественный журнал. Материал я перепечатывал в УО ГПУ[39 - Уездный отдел Государственного политического управления при НКВД РСФСР.]. Познакомился с начальницей ГПУ Ольгой Л. и… влюбился в эту тридцатилетнюю женщину. В ней соединялась женская красота с исключительной силой воли, энергией и обаянием. Я не говорю об её уме, о её змеиной мудрости. Она любила меня как «подающего надежды», учила работать, стаскивала с заоблачных высот, снимала панцирь эрудиции с людей, перед которыми я преклонялся, учила видеть человека там, где его трудно было заметить. Это был умный Мефистофель. Когда меня незаслуженно обидели в РКСМ и я пожаловался ей, она отругала меня за то, что я пришёл ей жаловаться, а не сообщать о том, что я победил.
Первая безнадёжная любовь.
Осенью 1924 года мы с отцом и матерью пришли домой с клубной постановки, где я играл бородатого крестьянина. Моя великолепная борода была «намертво» приклеена столярным клеем. В ожидании ужина и самовара (горячая вода для туалета) мы с отцом просматривали газеты. Вдруг раздался оглушительный выстрел. Я погасил лампу, опасаясь повторного выстрела. Отец был ранен. Пуля пробила бицепс правой руки, скользнула по брюшному прессу и пробила мышцы левой ноги. Можно было ожидать поджога. Я, взяв свой браунинг, вылез через пол сеней и созвал коммунистов села, а сам поехал верхом в ГПУ. Рогачёв меня не узнал. Наконец с отрядом и доктором мы вернулись домой. Стрелявший Ч. скрылся. Отцу было предложено переехать в другой город, но он отказался: «Что, бежать?!».