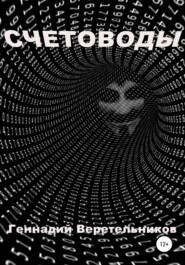По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о войне. Война в письмах, дневниках, историях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бабушка говорила, что, наверное, так даже лучше, чем если бы он выжил, мало того, что с изуродованным лицом, и без пальца, так ещё и без ног. Беда.
Сестра моя, Наденька, перестала разговаривать. Совсем. Онемела. Врачи не могли понять причину, но все списали на последствия контузии.
Мы учились все общаться с ней заново. Писали друг другу записки.
Она по необходимости. Мы из солидарности. Смеяться она тоже перестала.
В её русой косе до пояса, появилось много седых волос.
Через год она поступила в институт. Политехнический. На особых условиях.
Освоила азбуку для глухонемых. Проучилась там пять лет.
Все эти годы Надежду возили по лучшим клиникам страны в попытке вернуть Наденьке речь. Но «светила» медицинских наук были бессильны.
Я же через несколько лет ушел служить во флот, где и прослужил на крейсере четыре года. Черноморский флот и Севастополь стали моим домом на это время.
Когда вернулся, то Москву было не узнать, а вот сестра не изменилась.
В нашем доме по—прежнему жила тишина.
В одно прекрасное утро, наша бабушка сообщила, что ей срочно надо поехать к приятельнице в Минск и, пока я ещё не устроился на работу и был свободен, должен был её сопроводить. До Минска мы добрались на поезде. Бабушка Нюра загадочно молчала. Как—то краем глаза я увидел вырезку из газеты о каком—то безногом музыканте, но не придал этому значения, потому, как прошло почти десять лет после тех событий в Минске. Вышли на вокзале и первым делом бабуля подошла к будке, на которой было написана «Городская справка». Спустя несколько минут мы сели в автобус и поехали. На окраине города, на конечной остановке мы вышли. Бабуля несколько раз спрашивала у прохожих дорогу, и мы шли по улице с небольшими одноэтажными домами, аккуратно обходя лужи после дождя, который, судя по всему, прошел тут незадолго до нашего приезда.
Пахло свежестью. Щебетали птицы. Вдалеке виднелась опушка леса и мальчишки, которые гнали небольшой табун лошадей. Возле облезшей калитки из штакетника, окраска которого, некогда была синей, мы остановились. Я увидел приоткрытое окно, из которого сквозняком качало свернутую узлом марлевую занавеску, слышался звук аккордеона… до боли знакомого аккордеона …
У меня пересохло в горле …
Пульс участился и в моей голове стало горячо от прилившей туда крови.
Бабуля постучала и звук аккордеона замолк на полу ноте.
Дверь нам открыл Василий. Не узнать его было невозможно.
Перед нами был живой и такой же жизнерадостный мой спаситель!
Я не знаю, зачем наш папа нас обманул, может он на самом деле желал счастья своей дочке, не знаю. Но Василий выжил. Выздоравливал долго и мучительно.
Выкарабкался. На зло всем чертям. Он очень любил жизнь, и, говорит, именно любовь вытащила его с того света. Остался преподавать музыку в школе, на окраине Минска. В Одессу решил не возвращаться.
Потом наступил конец сороковых и по всей стране начали прятать инвалидов войны, которые массово, без ног и без рук пропивали свою инвалидную пенсию и клянчили деньги на всех улицах страны.
В стране—победительнице такое было недопустимо. Так посчитала партия и правительство. Свозили их неведомо куда. Обратно не возвращался никто. Говорили, что оставляли в санаториях навсегда.
Васе повезло. Ему вручили награду, Орден Ленина, за подвиг в Берлине, где он спас от смерти, говорят, что самого Жукова. Написали статью о его подвиге в послевоенном Минске, вырезку из газеты, которую я увидел в поезде.
Выделили дом в городе. Поставили в очередь на получение новой квартиры.
Потом меня отправили гулять в город, а бабуля Нюра очень долго, о чем—то беседовала с Василием. На следующий день мы уехали в Москву. Язык мне сказали держать за зубами. Я пообещал.
Вставал я всегда рано. Привычка с флота. Жили мы в сталинской высотке к тому времени. Отец занимал уже какой—то пост в министерстве строительства. Переехали мы туда недавно. Утро было прекрасным. Река, которую было видно из нашего окна, наполняла наш двор не только отблесками солнечного света, а и какой—то неописуемой радостью. Свежесть, сплетение летних запахов, цветов сирени, свежескошенной травы и вымытых тротуаров, все это вместе со сквозняком, через открытое окно, попадало к нам в квартиру. Родители ещё спали. Надежда была в ванной. Бабушка уже возилась на кухне. Городские птицы щебетали свои песни, кто где, кто на проводах, кто на деревьях и кустарниках. Город просыпался. Вдалеке слышались звонки трамваев и ритмичные звуки метл дворников.
Я даже не знаю, что завибрировало первое, окна, мое сердце, или воздух в Москве.
Через открытое окно окружила, обволокла песня, которую пел Василий, спутать его ни с кем было невозможно! Такого голоса больше не было ни у кого в целом мире! Голос не пел, он тихо плакал, потом громко рыдал от тоски и одиночества, и через небольшой проигрыш аккордеона сразу потек душераздирающий «Синий платочек» …
Бабушка замерла на кухне.
Я услышал, как резко выключилась вода в ванной. Я подошел к окну и открыл его настежь. Звук голоса усилился во много раз. Я выглянул и оторопел. Посередине двора, в инвалидной коляске сидел с аккордеоном в руках старший лейтенант Боровой. В парадной форме, с тремя боевыми орденами с одной стороны и с Орденом Ленина с другой стороны.
Кругом во дворе слышался звук открываемых окон.
Вряд ли тогда, не то, что Москве, а и во всей стране были тогда люди, которые не потеряли в войну своих близких. Потому военные и послевоенные песни были знакомы всем, да и вызывали они, большей частью одни и те же эмоции.
Но зрители не успели зааплодировать, потому что певец сразу запел дальше, и сталинская высотка стала подпевать, поначалу не дружно, а потом все слаженней и слаженней стали отхлопывать рефрен его следующей песни.
С балконов стали раздаваться восхищённые голоса.
Отец, мать проснулись и в пижамах выбежали в коридор, где столкнулись с Надеждой, у которой в глазах стояло нечто …
Аккордеон разливался всеми своими мехами … Василий продолжал петь, и серебряные колокольчики, из которых, казалось, состоит его невероятный голос, в полной тишине пропел следующую песню:
– Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…
Здесь аккордеон запнулся, было видно, что Василий на самом деле вытирал слезы, которые катилась по его изуродованному ожогом лицу …
Василий продолжил:
– Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь пролегла, между нами.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила…
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.