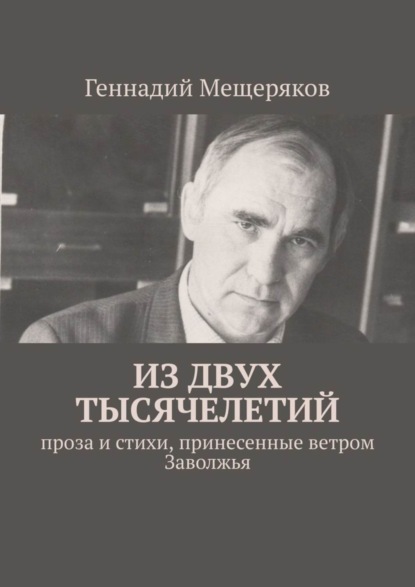По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из двух тысячелетий. Проза и стихи, принесенные ветром Заволжья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышал, слышал, все сороки трещат об этом, а чего ты добился? Только туалеты чище стали.
– Хочу, чтобы была справедливость – во всём.
– Права пословица: кто не работает, тот не ест.
– Не ест? Везде он летает! Посмотри на Симфероповичей, толще бегемотов, младших на руках до машины доносят. А ворует один старший Симферопович.
– Зависть тебя съедает. Ты для бомжа тоже богач: и квартира есть, и спишь не на полу. Представь, он объявит голодовку. Что смеешься?
– Как он может ее объявить, если все время голодает.
– Не умничай, давай поднимайся, теперь я прикорну на мягкой перине.
– Сказал же, не встану.
– Слушай, оппозиционер, а на что ты живешь? Смотрю, мебель у тебя новая.
У меня дед воевал, две пенсии получает, а ест только кашу, диабетик он.
– Отстегивает?
– А куда ему деваться: и ногу, и руку.
– Я о деньгах.
– На просо, ветер, много денег не уходит.
– На просо?
– Дед из него кашу варит, чтобы без добавок была. В кашу, говорит, много мела добавляют. Хочет до ста дожить.
– Тебе бы до тридцати дотянуть, уже сейчас воняешь.
– С чего бы, месяц ни одной крошки не пробовал.
– Крошки, возможно, и не пробовал, а мыться надо.
– Кто бы учил. Тебя вообще нет, когда не двигаешься, а вони приносишь и сам со двора немало.
– Не огрызайся, угостил бы, новости расскажу, не из ящика.
– Могу распылить в комнате одеколон, тройной, и сам подышу с тобой.
Через минуту почувствовалось дуновение воздуха:
– Хорошо стало, а распылил ты одеколон только на два пальца. Знаешь, где я до тебя был? В квартире у соседки. Семь туркменов она прячет для своих утех. Подумал сначала, инопланетяне – изможденные, с большими глазами, по тюбетейкам догадался.
А миллиардерша Звонова с чертом встречается, как вцепится в рога.
– Это, ветер, наверное, робот в образе черта. Звонова себе кавалеров заказывает в институте кибернетики.
– Он вопит, пощады просит?
– Так, в институте же заказывает, чтобы естественным был.
– Согласен. А вот ты, с кем общаешься?
– К сожалению, ни с кем. Была одна, да друг увел, нарушив все принципы дружбы, – вздохнул Василий.
– Что же ты голодовку не объявил? Испугал бы их пустой кишкотарой. Давай-ка распыли еще одеколончика, к Вере Гавриловне захотелось. Я ее обдуваю после душа. Соприкосновения тоже приятны.
– Правильно, неплохо бы к ней вместе заглянуть, со школы знакомы.
– Это другое дело, мужиком становишься.
Василий приподнялся:
– Как славно, ветерок, что ты ко мне залетел в форточку, прекращу я голодовку: на фига козе баян. У меня еще есть флакон тройного одеколона. Понимаешь, тройного. А нас двое. Куда нам надо? Правильно, к Вере Гавриловне, Веруньке, она обрадуется. Дойти бы только.
– Не бойся, поддержу, подтолкну.
Представь, Зин
– Зин, представь, умрем, и все, превратимся ни во что: не пукнешь даже.
– Вот и ставят люди памятники, Коль, чтобы напоминать о себе.
– Кому напоминать? Поставили мы памятник теще, смотрит пустыми глазами на тебя, не моргнет. А живая что вытворяла? Не знаешь до сих пор от кого ты родилась, то ли от Егора, то ли от солдата, их каждый год на уборке хлеба скока было.
– По паспорту, от Егора.
– У Егора глаза желтые, совиные, так и рыщет ими. А у тебя бесцветные, без зрачков, кажется, их и нет вовсе. Особенно когда закатываешь в постели.
– Прям и закатываю, если притворюсь: лицо у тебя делается с выражением коня.
– Меня с конем девчата всегда сравнивали.
– А Мария, твоя первая случница, с мерином сравнивала.
– Она городская, и ты коня от мерина едва ли отличишь.
– По лицу, да…
– С философской точки зрения мы с тобой, Зин, одно целое. Ты моя половина.
– Хочешь сказать, и я лошадь.
– Круп у тебя, да, как это выразиться по-ученому, адекватный. Помню, на свадьбе вы с тещей ими мерялись, если бы поменялись, наверно, я бы только и угадал.