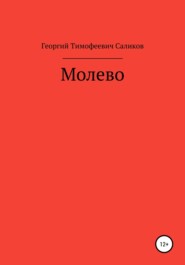По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камень, или Terra Pacifica
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай, лучше байку.
Иван сопротивляться не умел.
– Когда станет неинтересно, сразу остановите меня, – сказал он. И приступил к байке.
Он опустил глаза, призадумался. Потом тихо проговорил:
– “Икс”, “игрек”, “зет”, – рассказчик прочертил в воздухе горизонтальный крест и проткнул его вертикальной осью, – и мир увиден полностью. Достаточно трёх букв. Ладно. Можно ещё добавлять иных букв, чтобы увидеть этот мир иным образом. По крайней мере, их ещё в достатке. Однако, скучновато. Слишком как-то линейно…
– Поверхностно, – вставил словечко Борис Всеволодович.
– Да, – Иван усмехнулся, – есть такие градации осмысления вещей: линейное, плоскостное или поверхностное, объёмное, глубинное. Но я не о том. Я бы сказал совсем об ином качестве пространства. Необычайного достоинства. И может быть, не просто его…
– Давай необычайное достоинство, давай чего-то иного, – Нестор Гераклович Полителипаракоймоменакис наполнился жгучим ожиданием.
– Даю. Байка, так байка. Помните героиню из детской книжки, бабку, ту, которая всюду искала очки да не могла найти? А глянула в зеркало, увидела их у себя на лбу. Мы, числящие себя учёными, весьма похожи на неё. Ищем, скажем, некое иное распространение мира сверх ранее выведенных трёх и обозначенных буквами; тоже вроде бы очки, что ли, особые стяжаем; пояснее разглядеть хотим нечёткое наше окружение. Вот. Кое-кто кинулись из времени очки такие делать. Даже набрали на нём немало других “очков”, уже в науке, в степенях и званиях, в известности своей и славе. Другие – пытаются увидеть расширенный мир через притяжение, то есть массу… Мало таких иных, но бывают иногда. Нестора прошу не обижаться. Ничего такого диковинного тут нет. Так вот. Поискали, поискали мы подле себя иное, так сказать, измерение, посетовали на недостатки глаз и – ба! Наткнулись на зеркало. А там живое лицо. Там жизнь сияет ясно и очевидно. А она-то никакой буквы не заполучила! Так в материале чего-то мёртвого, составленного из трёх букв, мы заметили жизнь. Как знать, вдруг её хотели мы найти вокруг, а нашли в себе? Простенькое такое открытие создалось. Жизненность – вот оно, искомое представление всех вещей, помимо давно выведенных трёх измерений. Жизненность ведь имеет прямое отношение к очевидности, хоть у нас нет для неё измерительного инструмента. Линейку к ней не приставишь. И секундомер не подключишь. И весы не используешь. Причём только исключительно в ней осуществимо распространение любого импульса по настоящему. То есть, лишь в ней, в жизненности вообще нам дано распознавать и всякие остальные вещи, переданные некими координатами с буквенными обозначениями. Подумайте, не в ней ли содержится самый начальный и фундаментальный признак всего Божьего мира? Начало и продолжение. И будущее. Жизнь и будущее – они ведь непостижимо соответствуют меж собой. Правда, убедительно? Но, к сожалению, она (жизненность) легко утрачивается. Жизнь тут мимолётна. Она есть, и нет её. Мы есть, и нет нас. Вместе со всеми иными признаками сути вещей, прозванными измерениями. Хм, а кой-какие умники силятся искусственно синтезировать жизнь. Синтезировать эдакий эквивалент пространственного измерения. Хм… хотя, я думаю, жизненность вообще самостоятельна. Так часто бывает: ищешь какое-либо звено конкретного устройства, даже будто бы находишь его. А оно оказывается представителем совсем другого состава, пришедшего извне…
– Ну, действительно круто, – сказал Принцев, поднимая очки на лоб и зауживая глаза.
Леночка пожала плечами, изменив облик проявления форм своего тела, тихо сказала:
– Можно и не мерить ничего, тогда ваша проблема отпадёт сама собой. По мне, так лучше верить, чем мерить.
Иван, глядя на выразительную позу Леночки, согласился с ней беспрекословно, даже, думается нам, с охотой поверил ей. И горячо продолжил выковывать мысль. Однако не станем дословно обрисовывать всё его кузнечное искусство. Скажем лишь, что там он обращался к вороху проявлений тоже вроде бы изящных форм, но – касательно всеобщего бытия.
Итак, Иван вдохновенно развивал то, что в нём народилось. Сначала он коснулся основ пространства, где фантастически, во все стороны происходит колебание точки единого начала. Они-то, колебания создают все видимые и невидимые формы. Стройные или безобразные – дело особого характера. Тут красива сама мысль о способе происхождения форм из начала. Затем он сжато обрисовал природу времени, в коем обитают неуловимые течения и омуты всё того же начала – они созданы ради всеобщего созревания всех видимых и невидимых форм. Любая форма требует созревания или совершенствования. Далее он переметнулся на вездесущий вес. Речь о природе веса он поначалу отвёл на Нестора, сказав: тот, мол, в ней великий дока. Затем он преподал её в виде спектакля, где ничем не обнаруживаемые нити притяжения заигрывают с нетерпимой силой давления, образуя жгучее чувство, провоцирующее всякие желания. Без них не создать ни форм, ни совершенствования. Иван тут же закручивал сложнейшие сюжеты, выстраивал изящные конструкции их взаимопроникновения. Там у него чувство, обеспеченное притяжением, непостижимо удерживает форму, не даёт ей рассыпаться. И созревание, обеспеченное продолжительностью, он полнит смыслом определённой целенаправленности. Во времени – форма и чувство созревают, становятся совершенными. Вместе с тем форма, обеспеченная ёмкостью пространства, поставляет неописуемый простор для созревания чувства. Время же вдобавок оттеняет форму и реализует чувство, провоцирующее желания. Такой почти невероятный клубок возможностей содержится во всей видимой и невидимой вселенной. Но всё такое имеет место быть исключительно в присутствии жизненности…
Слушатели, конечно, как и мы, пропускали его речь сквозь собственные представления о своеобразных мировых слоях, через наработанный личный опыт собственного микрокосма. У каждого из них выстраивались безупречно оригинальные виды бытия. Например, у Афанасия Грузя.
– Извини, Иван, – сказал он. Вовсе не обязательно тратиться на полную вселенную. Давайте посмотрим на каждого человека. – При этом Грузь смотрел только на Леночку. – Обратим на него должное внимание. Микрокосм, всё-таки. Вот глядите, он олицетворяет всё, перечисленное тобой: пытливый взгляд на вещи, трепетное тяготение к истине, постоянное созревание. И это всё имеет смысл, если микрокосм наполнен дыханием жизни.
Иван также беспрекословно согласился и с Афанасием, как ранее с Леночкой. Сделав недолгую паузу, он продолжил своё выступление.
(Далее)
Тем не менее, пусть Иван выступает с умными речами, гармонично выстроенными, а мы пока в сжатом виде поведаем о странном институте, где стеклись такие разносторонне развитые люди. Там изучаются полезные ископаемые и методы их поиска. Но, то не «горный» институт, не в земле чего-то ищут наши старшие, младшие и просто научные сотрудники, не в геологических породах выискивают свой предмет особого пристрастия, а проникаются они в небо. Значит, институт скорее «горний», то есть изучаются там задачки всё-таки приближенные к творчеству. Предмет особого пристрастия в нём – ископаемые творчества. Лучше сказать, недавний институт науки недр волей властей стал институтом науки высот. Там – вновь обнаруженные полезные предметы не только постигаются, но и направляются нужным путём для развития человеческой цивилизации. Здесь расставлены столы и приставлены шкафы. Всюду лежат образцы ископаемого творчества из многих регионов вселенной. Они выглядят и рудоносными пластами, и собственно рудами непохожих величин и форм, а также всякого рода россыпями. Часть из них – в работе, в исследовании, то есть на столах, часть – в ожидании своего удела, в шкафах. Есть уникальные образцы, в виде самородков, они хранятся в специальных сейфах, и мало, кому доступны для исследования. Все помещения здесь буквально пропитаны духом этих образцов. Оказывается, мы с вами случайно и непреднамеренно попали в “Научно-исследовательский институт прикладного творчества”. Сокращённо: “НИИ Притвор”. Институт небольшой. Состоит он из трёх частей: отдел Пространства, где меж нескольких сотрудников работает Афанасий; отдел Истории, там засиживается Принцев, соизмеряя свои исследования с коллегами; отдел Важности, в нём коротает часы Нестор Гераклович в единственном числе. Заведение хоть непростое, однако, люди там обыкновенные, то есть очень умные. Но кроме ума, каждый из них обладает личной тайной, преследует совершенно оригинальную цель. Да, люди заурядные, а то и занудливые.
Скажем, Нестор Гераклович Полителипаракоймоменакис и Борис Всеволодович Принцев. Они, хоть числятся в разных отделах института, но почти без паузы бывают неразлучными и, несмотря на их разницу в летах более двадцати (старший – Полителипаракоймоменакис), наши сотрудники считают их братьями-двойняшками. По части комплекции отличие наблюдается ещё более очевидной: Борис Всеволодович тонок, сутул, нос крючковатый, губы тонкие, щёки впалые, лицо узкое, а крупные уши оттопырены в верхней части; Нестор Гераклович, можно сказать, огромен, курнос, круглолиц, толстогуб и полнощёк, а уши почти незаметны, хоть в одном из них блестит серебряная серьга. Сочетаниями цвета кожи с тоном растительности они тоже противоположны. Гладко выбритое и слишком загорелое лицо Принцева венчает жиденькая белокурая, коротко стриженая причёска, а глаз не опознать – их засекречивают тёмные очки. Белизну лица Полителипаракоймоменакиса, излучающего свежесть первого снега, обрамляет густой, иссиня-чёрный и курчавый волосяной покров (сверху, надо сказать, пореже и попрямее). А ничем не заслонённые круглые глаза цвета маринованных оливок выдаются вперёд сильнее, чем слабо выраженный картофелеобразный нос. К тому же Принцев – левша, а Нестор – обыкновенный, хоть и без указательного пальца на правой руке.
Или вот Леночка. Суховатая, это мы неправильно сказали. Она, скорее, не рыхлая, все формы её тела обладают строгостью исполнения. И если мы видим где-нибудь излишнюю выразительность, в другом месте обязательно появляется ей в ответ своеобразный противовес. То есть, детали внешности Леночки являют собой общее равновесие. Обличье складок в одежде настойчиво подчёркивает красноречивое содержание, утаённое под ней. Она ещё не определилась, какой из отделов ей больше подходит, поэтому приглядывается. И тут, и там. В основном она поставляет в них новые образцы ископаемого творчества, благодаря налаженным кругам знакомства в различных слоях интеллектуального и художественного опыта, отечественного и зарубежного. Вместе с тем, ей любопытно видеть отношение к образцам в каждом из отделов института. “Пространственники” в основном налегают на оптические области творчества, то есть, их заботят разного рода его перспективные аспекты. Леночке тоже это занимательно. Историки или «временники» всячески оттеняют эти образцы, они самозабвенно работают со всевозможными видами теней. Можно, конечно и с ними посотрудничать, но не очень ей по душе вездесущая тень, хоть и есть кое-какая польза. Тень ведь проявляет, правда? Но сомнений больше, чем приятия. “Важнистам”, лучше сказать, всего-то один он и есть, ему более всего привлекательны притяжения, все вкупе, какие только встречаются в живой и неживой природе. Там главное – узреть красоту колебательных процессов. Самое увлекательное в мире притяжений – именно колебательное состояние. Волны там, вибрации дрожания, музыка, в конце концов. И Леночку тоже этот отдел чем-то притягивает. Но. Не сподобилась она пока. Созревает.
Есть ещё одна занятная дамочка. Её мы уже вкратце обрисовали. Роза Давидовна. Эта женщина, имея внешнюю величину, прямо скажем, превосходную, выглядит малым дитём во всех иных отношениях. Глядя на её кудряшки, вообще приходишь в умиление. А интересы её не знают границ. Притом, что вникать в дебри исследований и разработок своих коллег и соратников она торопиться не торопится, и желания такого нет у неё.
Иван, теперешний рассказчик наш, он так, почти незаметен, хоть и мелькает одновременно во всех отделах института. Его простое лицо и простая внешность, казалось бы, особо не выделяются ярким содержанием. Но и не противоречат свободному произрастанию там, внутри его личности – совершенно незаурядных мыслей. Кроме того, у него, как говорится, всё ещё впереди.
Об Афанасии уже кое-что известно: есть у него “Эрмитаж” с женскими портретами. Он и сам, конечно же, неплох собой… Но… Ба! Что это у нас происходит? Все почему-то переполошились. Пока мы тут с вами отвлеклись болтовнёй, научная беседа, едва набрав обороты, немедленно обернулась, похоже, непредсказуемым происшествием. Именно Афанасий там взорвал, так сказать, обстановку. Он, кажется, совершал конкретный поступок обуздания всеобщей перспективы. Лицо его принялось наполняться тончайшими токами свежего вдохновения, скользящего по невидимым линиям безмерных мировых сопряжений, а в глазах появились острейшие искорки совсем нездешней поляризации. Правда, в его поток пока что неизвестного творческого акта вмешался Нестор Гераклович Полителипаракоймоменакис. Он завидел на лице Грузя явные для него одного оттенки, предполагающие окраситься в цвета редкого безумия. А может быть, он испугался, словно чуя некое свидетельство грандиозного построения, заранее готового погубить всех тутошних сотрудников, соратников, лиц и персонажей, да поставить жирную точку без продолжения. Не дай Бог.
– Ты чего? – мягко и зычно почти простонал Нестор Гераклович в сторону Афанасия и сделал очень озабоченные, почти отцовские глаза, надвигая на них изобильно морщинистый лоб.
Одновременно, и увлечённый рассказом Иван приостановился в речах своих. Он тоже навёл взгляд на Грузя. И мы в этот же момент сказали наше «ба».
Прочее собрание не стало укорять Нестора за помеху в научной речи Ивана, поскольку озаботились за судьбу Афанасия. Все, по-видимому, немного приустали от излишеств невероятно изысканных мыслей младшего, но самого умного научного сотрудника, они даже были довольны остановкой складного потока его слов, хоть и не без жизнеутверждающего начала. Впрочем, одна лишь Роза Давидовна вздрогнула бровями и буравчатым взглядом стала ждать хоть какого продолжения. Пусть от лица Ивана, пусть от Афанасия. Она будто бы двигала взглядом толщу воздуха перед собой. Но Иван помалкивал, а Грузь улыбнулся Нестору и сказал:
– Молодец, Нестор, ты даже не знаешь, что спас не только плоский лист с объёмным изображением фотомодели. – Он взглянул в сторону поруганного Земного Шара и на вновь образованное там белое географическое пятно. – Ты спас настоящую науку о настоящем творчестве. Нет, ты избавил истинное творчество от погибели, что не хуже спасения красивой женщины. Спасибо за скотч.
Афанасий с улыбкой серьёзности взглянул на небольшую стройную женщину, у которой, напомним, всё то именно женское было должным образом выражено, и обратился уже к ней:
– Леночка, вы имеете абсолютное право назвать Нестора Геракловича не только настоящим мужчиной и профессиональным спасателем, но и настоящим учёным мужем. Даже творцом. Хоть он об этом пока не знает. А изъясняться, и вправду, больше не надо.
Он, всё так же серьёзно улыбаясь, окинул взглядом образцы ископаемого творчества в виде рудоносных пластов и собственно руд, а также разного состава россыпей. На миг он припомнил уникальные образцы, в виде самородков, особо оберегаемых в специальных сейфах, и мало кому доступных для исследования. Затем он шагнул к стене с картой. Заслонил собой от коллег ту её часть, где недавно была приклеена фотомодель хватким французским скотчем, а теперь белело новое географическое пятно. Улыбка его знаменовала внезапную отвагу сотворить поступок. Он стал пристально вглядываться в глубину белого новоявленного острова, созданного не без участия Нестора и фотомодели. По мере всё большей и большей сосредоточенности во взгляде – остров также увеличивался размерами. Но действие происходило пока ещё в этой действительности. Грузь присутствовал ещё здесь, в окружении коллег. Однако сознанием своим он уже вроде бы удалился куда-то. Нет, не зря он так долго изучал оптические свойства ископаемых творчества. Сейчас что-то будет. Все дружно расступились по обе стороны от карты. Каждый молча пребывал в собственных догадках. Или в обычном ожидании.
А дальше настоящая наука или настоящее творчество, а, скорее всего, и то, и другое – сложились вместе или вложились друг в друга подобно матрёшке и сделали интересненькое дело. Афанасий, хоть и находился рядом с умолкнувшими сотоварищами, начал нежданно удаляться, но не куда-то, а прямо здесь он перспективно сокращался в собственном объёме. Вскоре его фигура стала почти невидимой точкой на поверхности карты и продолжала уменьшаться на фоне белого географического пятна в Тихом океане южнее островов Россиян.
Что это было? Поистине перспектива? Или притяжение? А может быть, пространственное схлопывание до нуля? Поляризация? Фокус? Не угадать. Неведомый закон вместе с законом перспективы, о которых размышлял учёный, своими скрытыми линиями нарисовали неведомое доселе событие.
(А тем временем)
В тот же момент солнце поднялось на пологую вершину дуги, а в доме напротив что-то невидимо дрогнуло. Из открытого окна в его середине изошло никем не замеченное волнение, всюду простирая упругое качение. Сначала оно ткнулось о ближние к нам сферы, придав им лёгкую вибрацию, а затем устремилось в места весьма отдалённые, обнимая собой всю землю и восходя отдельными гребнями в небесные области.
– А ты говоришь, Пациевич! – воскликнул Иван, мгновенно осмыслив происшествие. – Вот принцип, так принцип. Браво, Афанасий!
Остальные учёные оказались в полном оцепенении на длительное время, не слыша возгласов Ивана, пока не раздался чистый бессловесный взрыд Розы Давидовны. Она готова была расплакаться ещё тогда, в минуты речей Ивана о муках стяжания полномерного нашего пространства. Она была готова разреветься от боязни, одновременно и от красоты Ивановой мысли. Но теперь её прорвало из-за отчаянной жалости к Афанасию. Её гладкие щёки, мгновенно и равномерно покрывшиеся слёзной плёнкой, задрожали в мелкой судороге. Сразу после импульса рыдания она всплеснула пудовыми руками в сторону карты с белым географическим пятном, где Афанасий уже окончательно исчез, и, несвойственным ей в обычном состоянии слишком высоким голосом, с пронзительной болью выдавила из себя:
– Афонюшка-а-а! На кого же ты нас поки-и-ну-ул?!
Борис Всеволодович первым опомнился при визге «Раздавитовны», ещё выше поднял на лоб тёмные очки, с усилием сжимая и разжимая веки, но оставляя их зауженными. Он вынул из нагрудного кармана складную лупу, двинулся к тому месту, где только что стоял Грузь, приставил её там. Остальные люди, поочерёдно приходя в себя, кинулись разглядывать в стекло свежее белое пятно на карте Земли.
Меж ворсинок белой бумаги – Афанасия Грузя изобличить никому не удалось. Тёмные очки Принцева упали на его переносицу.
– Это какой масштаб? – догадался поинтересоваться Иван.
– Пятнадцатимиллионный, – с издевательской грустью пропела Леночка, – пятнадцатимиллионный.
– Ну, Принцев, ты и смекнул, в лупу захотел увидеть то, что в никакой-растакой микро-раз-микроскоп не удастся подглядеть, – Нестор Гераклович сдвинул вбок принцево двояковыпуклое стекло вместе с его рукой и сделал такими же двояковыпуклыми свои глаза. Ими он там-сям утыкался в теснящее взор упругое пространство.
(Вместе с тем)
На Невском ничего не изменилось. Та же постоянно обновляемая река автомобилей, те же неизменно подменяемые люди, – по-прежнему создавали поток, будто определённо знающий своё дело. Один из новеньких понурых пешеходов приостановился у перил Полицейского моста, ухватился за них. Вдоль Мойки, почти незанятой никакой начинкой из автомобилей и пешеходов, двигалось пыльное облако. Понурый пешеход внезапно отпрянул от перил, явно заторопился, обгоняя других, подобных ему, затем свернул с моста и скрылся в низке. В доме, что напротив, отомкнулось окно поближе к середине угловой части фасада. Но мы не успели разглядеть, само оно отворилось или чья-то рука тому посодействовала. А, впрочем, нам нет до того дела. Мы просто, без особого внимания отвели взор за рубежи оконного проёма. Нет, чья-то рука. Вот она же пытается задёрнуть занавеску. Но не получается. Наверное, заклинило. Облако пыли ушло в воду, а нового уже не заводилось. Ветер, по-видимому, стих. И примеченный нами пешеход спокойно так вернулся по мосту обратно, двинулся вдоль Мойки в сторону Невы. Более ничего примечательного не появлялось. Всё те же потоки автомобилей и пешеходов.
(Вскоре после того)
Наступила новая тишина, но её немедля нарушил нервный междугородный звонок телефона.
– Там Пациевич спрашивает Афанасия, – подняв трубку, сказала Роза окончательно сломанным на колоратуре голосом.
– Скажи ему, пусть он использует свою матрёшкину связь, – пробурчал Полителипаракоймоменакис.
Но «Лепесток» произнёс классическое: