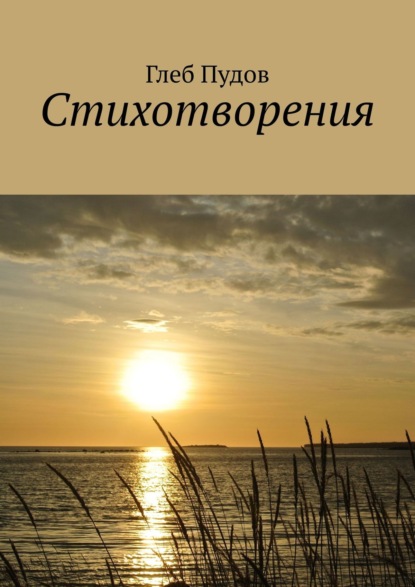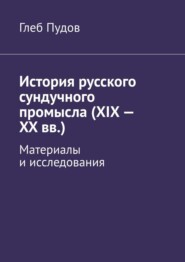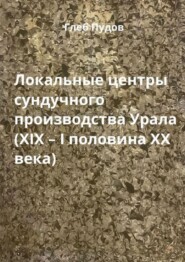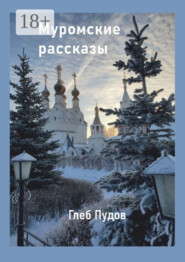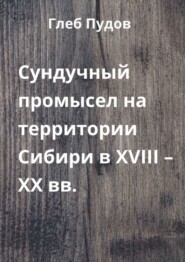По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стихотворения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сидишь за столом. Два эспрессо и книга.
Планета неспешно плывёт.
И вдруг (показалось?) за шелестом сгиба
ты слышишь, что кто-то зовёт.
Не автор совсем, не его персонажи,
а собственных мыслей излом,
который, устав от всех книжных пассажей,
воронкой кружится: «Пойдём!
Тут душно и тесно от хитрых приёмов,
от тяжести литератур.
Рядятся в философов наши ерёмы,
плодят сумасшедших и дур».
2
Достаточно воздуха! Если так хочешь
ты строчкой пробить небеса,
пиши о полотнах, скульптурах и прочем —
искусство одень в словеса!
Ни громких призывов, ни вечных прогрессов,
ни песен, ни мраморных слов!
Сиди за столом. Та книжонка. Эспрессо.
И необязательный зов.
Санкт-Петербург
Приступ
Вновь полезли отвсюду стишата,
вновь мелькают, я вижу хвосты
и тела их; чуть стоит нажать мне —
всё чернее, чернее листы.
Но какая болезнь обострилась?
Чем прогневал высоких богов?
Мне ж приятна душевная сырость
и тепло не моих очагов?!
Петрозаводск
«Отныне читать буду сказки…»
Отныне читать буду сказки
и в окна большие глядеть,
и, может, смогу без указки
прожить человечества средь.
Не надо прекрасных учений,
спасений не надо, чудес,
ведь я – не толпа и не гений,
не ангел совсем и не бес.
Я – ландыш, я – племя земное:
мне б только немного весны,
чуть солнца над серой Невою
да тихой – моей – красоты.
Петрозаводск
«Вот и полночь. В старинном вокзале…»
Вот и полночь. В старинном вокзале
напрягаясь, грохочут мосты
и табло ухмыляется («Vale!»[43 - Будь здоров (с лат.).])
с недоступной своей высоты.
Я пишу две строки то ли Вале,
то ли Оле, не помню, увы.
Все равно. Без любви и печали
я гляжу, как пылают мосты.
Голос диктора гласом пророка
начал двигать людские потоки.
До свиданья! Bis dann! Alles Gute!
Do widzienia, kochana! Good bye![44 - До скорого! Всего хорошего! (с нем.), до встречи, любимая! (с польск.), до свиданья! (с англ).]
Впрочем, нет. Под колесные стуки
я ударю наотмашь: «Прощай».
Санкт-Петербург
Эльзевир
Пришпиленной бабочкой спал эльзевир[45 - Эльзевир – название книги, изданной в типографии голландских печатников Эльзевиров (XVII век).]
в витрине холодной, горел
на крыльях его католический мир
от тысяч неоновых стрел:
тяжёлые буквы в тяжёлых словах
потоком спускались с небес
и затвердевали на шлемах, щитах,
чтоб страхом наполнился бес;
крестьянин пахал и молился монах;
торговец на рынок спешил;
усталый учёный на серых листах
вселенную с Богом творил.
А в келье его, на дубовом столе,
лежал молодой эльзевир.
Планета неспешно плывёт.
И вдруг (показалось?) за шелестом сгиба
ты слышишь, что кто-то зовёт.
Не автор совсем, не его персонажи,
а собственных мыслей излом,
который, устав от всех книжных пассажей,
воронкой кружится: «Пойдём!
Тут душно и тесно от хитрых приёмов,
от тяжести литератур.
Рядятся в философов наши ерёмы,
плодят сумасшедших и дур».
2
Достаточно воздуха! Если так хочешь
ты строчкой пробить небеса,
пиши о полотнах, скульптурах и прочем —
искусство одень в словеса!
Ни громких призывов, ни вечных прогрессов,
ни песен, ни мраморных слов!
Сиди за столом. Та книжонка. Эспрессо.
И необязательный зов.
Санкт-Петербург
Приступ
Вновь полезли отвсюду стишата,
вновь мелькают, я вижу хвосты
и тела их; чуть стоит нажать мне —
всё чернее, чернее листы.
Но какая болезнь обострилась?
Чем прогневал высоких богов?
Мне ж приятна душевная сырость
и тепло не моих очагов?!
Петрозаводск
«Отныне читать буду сказки…»
Отныне читать буду сказки
и в окна большие глядеть,
и, может, смогу без указки
прожить человечества средь.
Не надо прекрасных учений,
спасений не надо, чудес,
ведь я – не толпа и не гений,
не ангел совсем и не бес.
Я – ландыш, я – племя земное:
мне б только немного весны,
чуть солнца над серой Невою
да тихой – моей – красоты.
Петрозаводск
«Вот и полночь. В старинном вокзале…»
Вот и полночь. В старинном вокзале
напрягаясь, грохочут мосты
и табло ухмыляется («Vale!»[43 - Будь здоров (с лат.).])
с недоступной своей высоты.
Я пишу две строки то ли Вале,
то ли Оле, не помню, увы.
Все равно. Без любви и печали
я гляжу, как пылают мосты.
Голос диктора гласом пророка
начал двигать людские потоки.
До свиданья! Bis dann! Alles Gute!
Do widzienia, kochana! Good bye![44 - До скорого! Всего хорошего! (с нем.), до встречи, любимая! (с польск.), до свиданья! (с англ).]
Впрочем, нет. Под колесные стуки
я ударю наотмашь: «Прощай».
Санкт-Петербург
Эльзевир
Пришпиленной бабочкой спал эльзевир[45 - Эльзевир – название книги, изданной в типографии голландских печатников Эльзевиров (XVII век).]
в витрине холодной, горел
на крыльях его католический мир
от тысяч неоновых стрел:
тяжёлые буквы в тяжёлых словах
потоком спускались с небес
и затвердевали на шлемах, щитах,
чтоб страхом наполнился бес;
крестьянин пахал и молился монах;
торговец на рынок спешил;
усталый учёный на серых листах
вселенную с Богом творил.
А в келье его, на дубовом столе,
лежал молодой эльзевир.