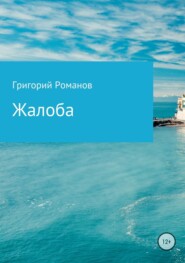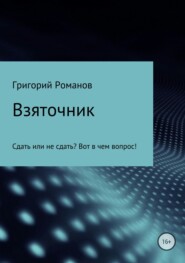По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лыткаринский маньяк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы что, правда оговариваете полицейских? – изумился Антон.
– Да, оговариваю. Но нет такой напраслины, такого навета и поклепа, которые, в итоге, не оказались бы правдой. Еще и приукрашенной. Не существует индивидуального ума, хоть близко способного выдумать то же, что придумает коллективный мозг системы. И если тебя не били, не пытали, то делали это с другими, лишенными возможности говорить.
Я вижу их по ночам. Они сидят по тюрьмам, лагерям. Сидят, никем не услышанные и требуют: расскажи правду за нас!
Расскажи, и баланда покажется нам чуть вкуснее. Дни в тюремном аду – чуть короче. Свобода покажется нам ближе, если правду услышат. Твоя ложь станет нашей правдой, потому, что она и есть правда.
Глубокая мысль Василия Ивановича с трудом дошла до Антона. Но, суть он, вроде, уловил:
– То есть, если я скажу, что меня здесь, например, били током, то я угадаю?
– Нет, не угадаешь. Будет еще хуже.
– Хуже кому-то другому?
– Может, другому. А может и нет.
– Извините, но бьют и пытают какие-то люди, а не система. О них нужно рассказать правду. Разве нет?
– Нет. Каким-то людям можно дать сдачи. Отвести за угол и открутить башку, частным порядком. Заявление на них подать, в конце концов.
Но попробуй, дай сдачи полицейскому при исполнении. Или заяви на него, попробуй! Ничего не выйдет. Они часть системы и безобразничают не сами по себе. От его имени.
Все замолчали. В углу тоже перестали шептаться. Почему «его»? – подумал Антон. Система женского рода!
Василий Иванович продолжил:
– У них, тут, есть местная шутка, Лыткаринский маньяк. Не слыхал про такого?
– Нет… А почему он Лыткаринский?
– Просто так, для хохмы. Перед ним любое прилагательное ставь, – не ошибешься. Считают, они его выдумали, юмористы. Вспоминают, когда надо поржать, людям голову заморочить. Маньяк, это ж так весело!
А я его видел. Собственными глазами, близко, как тебя сейчас.
– Вы его поймали?!
– Кого, маньяка? Нет, конечно. Его нельзя поймать, невозможно. Это он может поймать. Схватить за самую душу, заставить делать зло.
Антон скептически посмотрел на рассказчика. Видно, надо объясниться поподробней:
– Я работал здесь. В восемьдесят восьмом, после армии пришел. Сначала опером, потом заочно выучился и стал следователем. Молодым был, горячим. За справедливость стоял горой. Как все, поначалу.
И вот, дежурю как-то, на сутках, вызывают нас на происшествие. Приезжаем, – там убийство. Чуть обгоревший дом, а в нем пять трупов. Хозяева и трое детей, от четырех до восьми. Убийца поджечь пытался, да, видно, не занялось.
По закону, на такое должны были ездить прокурорские. Но, они ж ленивые, черти. Дежурили на дому, по ночам спали, как белые люди. Говорят: ты поезжай, все оформи, а потом передашь, по подследственности.
Все дерьмо за них выгребешь, а начнешь передавать, еще и выскажут: То не так сделал, да это не эдак. Тьфу!
Стал я оформлять, писать протокол осмотра. Часов на пять работы. Пока писал и подозреваемый отыскался. Двоюродный племянник, семнадцати лет. Остался сиротой, они его и приютили, на свою голову.
Потом вернулись в отдел. Опера с племянничком поработали, чистосердечное приняли и ко мне, на допрос.
Я тогда и разговаривать с ним не стал. Сижу, все из объяснений в протокол переписываю, а сам поглядываю на него, выродка. И вдруг понимаю: не могу видеть эту мразь. Представить не могу, что пятеро убиты, а он останется жить.
Несовершеннолетний, вышку не дадут. Десятка – край.
Быстро так все в голове сложилось. Сейчас, думаю, я ему наручники расстегну, что б он протокол подписал. А как он руки протянет, выстрелю ему в лоб. Потом напишу рапорт, что он на меня напал. Кто с этой мразотой разбираться будет! Только перекрестятся все.
Сижу, кобуру потихоньку расстегиваю, взвожу курок. Патрон-то у меня всегда был дослан. Реально, никаких сомнений тогда не было. Только встал зачем-то, по кабинету пройтись. Как раз, прикидывал, в какую сторону его мозги разлетятся.
У меня в кабинете, на двери, висело зеркало. Прямо в рост. Так я и посмотрелся в него. Стою, волосы взъерошены, под глазами черные круги: сутки не спал. А в руке пистолет на взводе. Прямо, ангел мщения. Потом как-то повернулся, а отражение в зеркале осталось прямо стоять. Ясное дело, почудилось. Еще подвигался: нет, все верно отражает, не тормозит.
Обошел я парня еще раз, посмотрел и не стал брать грех на душу: Пускай бог наказывает мерзавца. А я бумаги дописал и домой, с суток отсыпаться.
– А кто маньяком-то был? Тот парень?
– Да ты не понял, что ли? Я им был. Я сам. Через три дня выяснилось, что парень не виноват. Знакомый их порешил из-за какой-то ерунды.
Начал я вспоминать наши «железные» доказательства, а там все белыми нитками шито. Отпечатки его в доме. Да, как им не быть, он ведь жил там! Показания соседей про мужчину в фуфайке… Да, была у пацана фуфайка, как у всех остальных на районе. С чего же взяли, что это он? Его признания, явка с повинной? Мне ли не знать, как их добывают! Как пелена с глаз упала. А главное, ведь я б его пристрелил!
Антон слушал, затаив дыхание. Ничего не произнес, но в глазах читалось ясно: Что ж тебя остановило?
– Дед-покойник уберег. Серафим Евграфыч, мой дед, по матери. Я его никогда не видел, только на фотографии. Одна единственная от него осталась. Стоит, в косоворотке и черном пиджаке. Красивый был мужик, чернявый, с закрученными усами. А спереди, слева, среди черной шевелюры белый клок. Седина или просто белые.
Его, в тридцатые, обвинили во вредительстве. Дело в три дня закончили и в расход. Родню заставили от него отречься. Бабка девичью фамилию вернула. А через год выяснилось – не при делах он был.
Сосед чего-то мутил, а когда почуял, что могут заподозрить, – написал донос на деда. От себя подозрения отвел.
А я, когда парня кругом обходил, смотрю: у него такой же клок на голове. Стрижка короткая, сразу не заметил. А теперь вижу – такое же пятно на том же месте. Молодой, а уже с сединой.
И тогда уж дед встал перед глазами. Не в зеркале, а так. Смотрит со своей желтой фотографии: Что, внучёк, и ты пальнешь? Давай, солдатик, нам не привыкать.
Вот, тогда и передумал. Да, получается, не сам, – покойник маньяка одолел. А сам бы я с ним не справился.
Теперь Антон подумал, что, может, и не зря здесь оказался. Возможно, даже выгоду получится извлечь. Мистику и маньяка он пропустил мимо ушей. А, вот дед, которого расстреляли в тридцатые… Самое оно!
В универе, на факультативе по истории, задали написать реферат. Про репрессии в тридцатые годы. И, желательно, что-нибудь биографичное, из семейной хроники. А у него в семейной хронике – ничего!
Бабушка до смерти Сталина боготворила. Говорила: никогда так хорошо не жили, как до войны. Прадед всю Отечественную прошел. Вроде и не хвалил те времена, но станет выпивать, первый тост за Генералиссимуса. По любому поводу, хоть день рождения чей.
Сначала за своего усатого кумира, а уж потом за именинника и всех остальных. Вот и пиши, что хочешь!
Что? Обошла беда стороной. И так бывает. А тут такая история: тридцатые, вредительство, донос…
Эх, Антоша! Молодо-зелено. Не про тридцатые его рассказ и не о сталинских репрессиях. Да, что с тебя, студента, взять…
– И как же вы дальше?