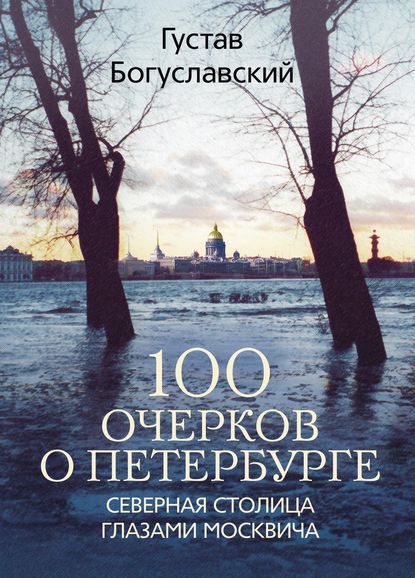По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
100 очерков о Петербурге. Северная столица глазами москвича
Серия
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Феофан Прокопович родился в июне 1681 года в семье киевского купца. Получив образование в Киевской духовной академии, он на несколько лет уехал за границу (Львов, Вена, Феррара, Флоренция, Пиза, три года в Риме) и по возвращении в Киев и пострижении в монахи стал преподавателем в той же академии. В 1711 году он впервые встретился с Петром, который через четыре года вызвал его в свою новую столицу. В Петербург Феофан приехал в октябре 1716 года, в отсутствие царя, а с осени 1717 года, после возвращения Петра из-за границы (он был встречен двумя поздравительными речами Феофана – подлинными шедеврами пропагандистской риторики) начинается период их сближения и тесного сотрудничества, из года в год набиравшего силу.
Феофана Прокоповича редко числят среди «птенцов гнезда Петрова», хотя он не просто один из главных участников этого кружка (и единственное в нем духовное лицо), реформатор, но и один из наиболее значительных носителей важнейшего качества, объединявшего «птенцов» с самим царем, – умения ценить образование и образованность.
Феофан Прокопович
Феофан был не только человеком масштабной европейской культуры, образованнейшим среди сподвижников Петра, подлинным энциклопедистом, но и распространителем этой культуры в России, в Петербурге. Его обширное поместье на окраине тогдашней столицы, на берегу речки Карповки – там, где она вытекает из Большой Невки, было одним из важнейших центров петербургской светской культуры того времени. В доме Феофана, где находились его библиотека (около 30 тысяч томов) и коллекция картин (150 полотен), собирались на «аттические вечера», продолжавшиеся за полночь, представители столичного культурного круга. Стихи, беседы, музыка звучали здесь в непосредственном соседстве со школой, их отголоски доходили до ее учеников – и эта особенность «салона» Феофана тоже была необычной.
И здесь же, рядом со своими юными питомцами, он создавал многочисленные труды: «слова» и речи по разным поводам (позднее они будут собраны и изданы в трех томах), нравоучительные сочинения («Юности честное зерцало», 1717 год), произведения политической публицистики («Правда воли монаршей», 1722 год), яркие памфлеты против раскольников и церковных лицемеров, исторические труды («История царствования Петра Великого», 1717–1718 годы и «Розыск исторический, коих ради вин и в Яковом разуме были и нарицались императоры римские», 1721 год). Здесь же трудится он над одним из главных своих творений – «Духовным регламентом или Уставом Духовной коллегии» (Синода).
Работа эта началась еще в 1718 году по поручению царя. В феврале 1720 года Пётр рассматривал и дополнял первый вариант «регламента», а в январе 1721 году он был утвержден, и 14 февраля Феофан в Троицком соборе произнес знаменитое «Слово» по случаю создания Синода.
В «Регламенте» есть раздел «О домах училищных» – один из самых интересных и значительных. Подробно излагая свои педагогические воззрения, Феофан в то же самое время, в 1721 году, создает школу на Карповке, проверяя и утверждая на практике собственные педагогические принципы. Школа эта, просуществовавшая 15 лет (до смерти Феофана), стала первой русской лабораторией гуманистической педагогики; о том, что она стала его главным делом, свидетельствует факт завещания Феофаном значительной части своего имущества школе и ее питомцам…
Это было время, когда в общественное сознание настойчиво внедрялась идея ценности образования и уважения к нему. Страна готовилась к переходу от «свободного невежества» к осознанию необходимости учиться – переходу долгому и трудному. Надо было преодолевать вековые предрассудки и «смеха достойные» суеверия, кичливое пренебрежение к знанию, в котором многие видели причину ересей и нестабильности. И Феофан пишет в «Духовном регламенте»: «Если посмотреть чрез историю, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие века, увидим все худшее в темных, нежели в светлых учением временах»…
Н. Челнаков. Подворье Феофана Прокоповича
«Светлые учением времена!» Феофан Прокопович видел их впереди, служил им. И понимал, что времена эти не настанут, если не бороться против «лжеучений» – схоластики, начетничества и против «лжеучености» – той беды, которую мы сейчас называем «образованщиной».
«Привиденного и мечтательного учения вкусивши, – читаем мы в «Регламенте», – человецы глупейши бывают от неученых, ибо… мнят себя бытии совершенных и, помышляя, что все, что знать можно, познали… не хотят больше учитися». «Есть учении, которые имени сего не достойны…» «Возымеет о себе мнение, что он мудрый – и от таковых нет горших бездельников…» Из таких – «враги властей, гордецы» – самодовольные, претендующие на посты, не способные признать своих ошибок. Не умеющие и не желающие всю жизнь учиться: «Просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем, но не перестает никогда учитися», – пишет Феофан.
Его педагогика нацелена на решение двух нерасторжимо связанных между собой задач: воспитания и образования; в этом двуединстве на первом месте – воспитание, в результате которого «грубость отпадет». Надо делать все, чтобы избегать в воспитании и обучении суеты, «суетного убытка» и скуки, чтобы жизнь, наполненная учением, была интересной.
Это поразительно, но почти три века назад ученый монах-энциклопедист Феофан в официальном документе, каким был «Духовный регламент», и в составленных им для своей школы «регулах» (правилах, нормах распорядка) чаще всего употребляет два слова: «остроумие» – острый, любознательный ум и «веселость», «веселье»… Учение должно быть «веселым», школа должна находиться «не в городе, но в стороне, на веселом месте, угодном, где несть народного шума». Речь идет о необходимости создания в школе особого настроения, устройства в ней жизни, заполненной учебным трудом, четко организованной – со строгими дисциплиной и надзором, с точным расписанием, в котором время учения и отдыха точно определено; во время прогулок, например, «не вольно никому учитися и ниже книжки в руках иметь… А гуляние было бы с играми честными и телоподвижными. Ибо сие и здравию полезно есть, и скуку отгоняет… Врачевание скуки», – пишет Феофан.
На этих принципах и основана выработанная Феофаном идея школы, которую он обозначает как «Сад Петров» («Петергартен»). Программа школы на Карповке, рассчитанная на «остроумного ученика», была программой светской школы. Духовный элемент образования (богословие – главные догматы православия и Закон Божий) явно стоял на втором плане. «Дела сего требует и самая крайняя Отечества нужда и польза Царскому Величеству, – читаем мы в письме Феофана секретарю Петра Алексею Макарову, – ибо в доме училищном не только богословское имеет быть учение…»
Программа была основана на «триязычном» (русском, латынь, греческий) принципе, причем все эти языки надлежало «правильно знать». Русский язык изучался живой, использовался «Лексикон» – «речений сокровище, собранное из разных новых и древних книг». Грамматика осваивалась в тесной и живой «межпредметной связи» с географией и историей: «Сие вельми полезно, ибо… когда невеселое языка учение толь веселым мира и мимошедших в мире говорится, что историю честь без ведения географического есть как бы с завязанными глазами по улице ходить…»
Гуманитарные предметы обучения – языки, «мир слова», история и география – составляли фундамент, на который опиралось «учение внешнее», продолжавшееся несколько лет и включавшее арифметику с геометрией, логику с диалектикой, риторику и поэзию, физику и метафизику, политику, римские древности, рисование и музыку.
«Таковое младых лет житие кажется быть стужительным и заключению пленническому подобно», – читаем мы в «Регламенте». И тут же это опасение отгоняется. Раз-два в месяц, летом, совершаются прогулки «на островы, к дворам загородным государевым и, хотя единожды в год, – в Санкт-Петербург». По праздникам в школе звучит «глас мусикийских (музыкальных) инструментов», а в летние каникулы проходят разыгрываемые учениками сценические представления под открытым небом и дважды в год – акции, диспуты, «риторские экзерциции» (открытые соревнования учеников в ораторском искусстве)…
«Школа на Карповке» была интернатом со строгой дисциплиной. Учеников отпускали на побывку домой лишь с третьего года и не дольше чем на неделю. Первые годы она была «частной» школой Феофана. «Несколько ребяток, при мне учимых и питаемых, – писал он в 1721 году, – потщуся очистить и угодные сделать пять изб в моем дому, где до 30 отроков вместить можно будет. Только б пропитание и одеяние их… было определено от Его Царского Величества…»
В «пропитании и одеянии» ученики «школы на Карповке» нуждались. Ведь набирались они из сирот, детей бедняков или людей «низкого звания» (мелких чиновников, солдат) – в отличие от контингента духовных школ здесь не было социальной замкнутости (только дети духовенства). Принимались в школу дети после «испытания памяти и остроумия» – в возрасте 10–12 лет («ибо в таком возрасте дети еще не вельми обучились злонравию, в если обучились, однакож не закрепили обычаем, и таковых нетрудно отучить»). А обучать этих детей должен был «учитель умный и честный (в другом месте сказано: добрый), который бы детей учил не только читать ясно и точно, но учил бы и разуметь». А «отучать» было обязанностью находившегося в каждой избе воспитателя («префекта») – человека «честного житья… не свирепого и не меланхолика», который за поведением и нравственностью воспитанников наблюдал бы «без поноровки» и наказывал провинившихся: малых – розгой, а средних и старших – «словом угрозительным»…
Так жила эта необыкновенная для своего времени «школа на Карповке», в которой за 15 лет обучилось 160 человек (в 1736 году в школе было 42 ученика). Среди ее питомцев мы встречаем имена людей, позднее ставших известными: Григорий Теплов – академик и сенатор, Алексей Протасов (сын солдата Семеновского полка) – академик, как и Семен Котельников, сын солдата Преображенского полка; в списке учеников последнего года встречаем Ульяна и Антона Калмыковых…
Огромная Россия – и одна такая школа. «Капля в море…», но, понимая это, мы не смеем недооценивать того замечательного педагогического начинания почти трехсотлетней давности, которое неразрывно связано и с городом нашим, и с одним из самых ярких и выдающихся современников и сотрудников Петра – мыслителя и оратора, писателя и педагога, историка и литератора Феофана Прокоповича…
Начало Кунсткамеры
Что в академии я видел – и не счесть:
Во-первых, восковой портрет царя там есть,
А также кабинет сокровищ и диковин,
С которыми в цене ничто не станет вровень.
Там господин Отец всех глобусов стоит,
Настолько же велик, насколь и знаменит.
Из посвященной Петербургу поэмы И. – X. Трёмера. 1735 год
Это здание и этот музей, основанный Петром Великим и носящий его имя, знает каждый петербуржец. Изящный силуэт венчающей здание Кунсткамеры башни давно уже стал одним из «знаков» нашего города, его образных символов. А Музей антропологии и этнографии, принадлежащий к числу музеев мирового класса и научного значения, – один из самых «модных» музеев Петербурга. И первый музей в России.
Его коллекции, начало собиранию которых положено Петром, не самые первые в нашей стране. Оружейная палата в Московском Кремле и «модель-камора» в петербургском Адмиралтействе по возрасту старше Кунсткамеры. Но первая была собранием великокняжеским и царским, а вторая – ведомственным; обе были не только хранилищами, но одновременно и производственными предприятиями. А Кунсткамера стала первым в стране публичным, открытым, общедоступным музеем. Ее создание было важной частью культурной реформы начала XVIII века – реформы, нацеленной на включение России в «европейское культурное пространство».
Идея собирания «куриозных» – необыкновенных, удивительных, чем-то «выходящих из ряда» – предметов принадлежала самому Петру и была естественным проявлением неукротимой и безграничной любознательности этого человека. Много сказано и написано о том, как Пётр покупал за границей целые коллекции (анатомические, минералогические, медалей, монет и др.), пользовавшиеся в начале XVIII века общеевропейской известностью. Путешествуя по Европе в 1716–1717 годах, встречаясь со знаменитыми европейскими учеными, принимая почести, которыми сопровождалось его избрание в Парижскую академию наук, Пётр сделал и немало приобретений для своей будущей «Куншт-Каморы», кабинета редкостей. В Данциге у доктора Готвальда куплена была богатая коллекция минералов, в Амстердаме Альбертус Себа продал царю свою знаменитую чрезвычайно разнообразную по составу и происхождению коллекцию «куриозов и самородных вещей» (чучела птиц, «чудественных странных зверей», африканских и американских «гадиков», насекомые, раковины, семена экзотических растений и пр.). В том же 1717 году у престарелого амстердамского анатома Фредерикуса Рюйша приобретается его знаменитая коллекция анатомических препаратов и различных «монструмов» – Пётр увидел эту коллекцию еще за 20 лет до того и был потрясен ею.
Но при всем этом нельзя воспринимать коллекцию петровской Кунст-Каморы только как сумму этих разнородных коллекций различного происхождения. Царь собирал свою коллекцию, и основным источником ее пополнения должна была стать сама Россия. Это – главная идея Кунсткамеры.
А. Рудаков. Кикины палаты
13 февраля 1718 года состоялся указ, которым царь поручал местным начальникам (губернаторам и комендантам) заботу о собрании и отправке в Петербург всех «натуралий и прочих раритетов», которые появлялись или находились на подведомственной территории. Вопреки распространенному мнению, что в Кунсткамеру собирались «уроды» человеческого и животного происхождения, программа будущего музея, предложенная Петром, была гораздо шире и интереснее. В указе говорилось: «Также, ежели кто найдет в земле или в воде какия старые вещи, а имянно каменья необыкновенные, кости… не такия, какия у нас ныне есть, или и такие, но зело велики или малы перед обыкновенным, также какия старые надписи на каменьях, железе или меди или какое старое, необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно – також бы приносили…»
Так, через несколько месяцев после возвращения Петра из полуторагодичной поездки по Европе было положено начало «Куншт-Каморе» – одному из крупнейший в мире музеев историко-культурного и естественно-научного направления. Он касался десятков наук, многие из которых (палеонтология или археология, например) еще не «оформились» к тому времени как самостоятельные научные дисциплины…
Собранные коллекции и их пополнение были «поручены в смотрение» лейб-медику царя 26-летнему Лаврентию Блюментросту. Сами коллекции были тогда же, вместе с библиотекой, перевезенной из Летнего двора, размещены в пяти комнатах (библиотека еще в трех) Кикиных палат. Штат Кунсткамеры в декабре 1718 года был определен в 9 человек.
Через два года иностранец, посетивший Кунсткамеру, отмечал, что «в нынешнем помещении уже тесно, так как там постоянно что-нибудь прибывает». Действительно, музей непрерывно пополнялся: сюда передаются серебряные ключи крепости Дербент, модели Иерусалимского храма, медали и монеты, купленные у Мушенброка, физические и математические инструменты. В 1724 году здесь появляются анатомические препараты, полученные при вскрытии тела «французского великана» Николя Буржуа, находившегося на службе у царя; из разных губерний присылаются разнообразные «монструмы». В Кикиных палатах Кунсткамера находилась ровно десять лет…
Одновременно с организацией самого музея начинается строительство специального здания для него. История этого «долгостроя», растянувшаяся больше чем на десять лет, интересна и сама по себе, и потому еще, что в ней выпукло отразилось то время – со всеми его особенностями и странностями, сменой ритма, «приливами и отливами», со всеми его положительными и дурными сторонами. Дата начала строительства нам точно известна. Но еще почти за полтора года до этого, когда царь путешествовал по Европе, 7 февраля 1717 года Меншиков писал главе Городовой канцелярии князю Черкасскому «о Куншт-Каморе» (следовательно, уже к этому времени было задумано ее создание), а Черкасский сообщал в ответ, что «на то место» (!) уже перевезено 45 тысяч кирпичей.
Здание Кунсткамеры. Фасад. Рисунок 1741 года
Под «тем местом» имеется, вероятно, в виду тот участок невской набережной на Васильевском острове, который (вместе с уже построенным домом самого Меншикова) «фланкировал» парадную часть этой набережной. Позднее на середине этой линии Доменико Трезини возведет здание «Двенадцати коллегий».
Существует, между прочим, легенда о том, что место это было во время одной из прогулок с Меншиковым по острову отмечено самим Петром: здесь росли две сосны, и ствол одной из них «пророс» в ствол другой – такой природный «раритет»…
Здание Кунсткамеры было вторым в Петербурге (после Почтового двора и не считая храмов) зданием публичного, общественного назначения и первым в России зданием специального культурного назначения.
В «Поденных записках» Александра Меншикова мы читаем, что 26 июня вечером (вот она, начальная дата!) он «ездил смотреть начатия строения библиотеки», но там же под 22 апреля отмечено, что Меншиков, находясь в своем доме, «вышел в переднюю полату и изволили подряжать строить его царского величества дом, в котором быть библиотеке».
Здание Кунсткамеры. Разрез. Рисунок 1741 года
Итак, решение о строительстве уже было принято, подряды оформлены, исполнение строительных работ было возложено на Канцелярию от строений, а «комиссаром» при этих работах назначался полковник Иван Ерофеевич Лутковский, бывший до того командиром Белозерского полка, – это свидетельствует о значении данного строительного объекта, о его «престиже».
И еще одно немаловажное обстоятельство: во всех документах, относящихся к первым годам этого строительства – вплоть до 1723 года, – строящееся здание именовалось только «библиотекой», «Кунст-Камора» присоединяется позднее. Главным в этом «симбиозе» первой общедоступной библиотеки и первого музея в стране была все же бибилотека!..
Об истории Кунсткамеры немало написано, но неиспользованными остаются сотни документов, многие из которых таят в себе загадки. Многое в этой истории еще остается неясным.
Это проявилось и в том «курьезе», который каждый приметливый человек может обнаружить не внутри, а снаружи самого здания. На разных его стенах – две разные доски, дающие различные сведения о времени окончания строительства (причем обе даты неверны) и о строивших это здание архитекторах: 1718–1727 и 1718–1734 годы; начата Матарнови и закончена Киавери – на одной и упоминание Г. Матарнови, Г. Киавери и М. Земцова – на другой. Архитектор Николай Гербель, строивший здание с 1719 по 1724 год, не упомянут нигде!..
Вопрос об архитекторах действительно труден; в описании, изданном в 1741 году, отмечается, что «палаты Академии наук строены от разных архитекторов». Это действительно плод коллективного творчества.
Феофана Прокоповича редко числят среди «птенцов гнезда Петрова», хотя он не просто один из главных участников этого кружка (и единственное в нем духовное лицо), реформатор, но и один из наиболее значительных носителей важнейшего качества, объединявшего «птенцов» с самим царем, – умения ценить образование и образованность.
Феофан Прокопович
Феофан был не только человеком масштабной европейской культуры, образованнейшим среди сподвижников Петра, подлинным энциклопедистом, но и распространителем этой культуры в России, в Петербурге. Его обширное поместье на окраине тогдашней столицы, на берегу речки Карповки – там, где она вытекает из Большой Невки, было одним из важнейших центров петербургской светской культуры того времени. В доме Феофана, где находились его библиотека (около 30 тысяч томов) и коллекция картин (150 полотен), собирались на «аттические вечера», продолжавшиеся за полночь, представители столичного культурного круга. Стихи, беседы, музыка звучали здесь в непосредственном соседстве со школой, их отголоски доходили до ее учеников – и эта особенность «салона» Феофана тоже была необычной.
И здесь же, рядом со своими юными питомцами, он создавал многочисленные труды: «слова» и речи по разным поводам (позднее они будут собраны и изданы в трех томах), нравоучительные сочинения («Юности честное зерцало», 1717 год), произведения политической публицистики («Правда воли монаршей», 1722 год), яркие памфлеты против раскольников и церковных лицемеров, исторические труды («История царствования Петра Великого», 1717–1718 годы и «Розыск исторический, коих ради вин и в Яковом разуме были и нарицались императоры римские», 1721 год). Здесь же трудится он над одним из главных своих творений – «Духовным регламентом или Уставом Духовной коллегии» (Синода).
Работа эта началась еще в 1718 году по поручению царя. В феврале 1720 года Пётр рассматривал и дополнял первый вариант «регламента», а в январе 1721 году он был утвержден, и 14 февраля Феофан в Троицком соборе произнес знаменитое «Слово» по случаю создания Синода.
В «Регламенте» есть раздел «О домах училищных» – один из самых интересных и значительных. Подробно излагая свои педагогические воззрения, Феофан в то же самое время, в 1721 году, создает школу на Карповке, проверяя и утверждая на практике собственные педагогические принципы. Школа эта, просуществовавшая 15 лет (до смерти Феофана), стала первой русской лабораторией гуманистической педагогики; о том, что она стала его главным делом, свидетельствует факт завещания Феофаном значительной части своего имущества школе и ее питомцам…
Это было время, когда в общественное сознание настойчиво внедрялась идея ценности образования и уважения к нему. Страна готовилась к переходу от «свободного невежества» к осознанию необходимости учиться – переходу долгому и трудному. Надо было преодолевать вековые предрассудки и «смеха достойные» суеверия, кичливое пренебрежение к знанию, в котором многие видели причину ересей и нестабильности. И Феофан пишет в «Духовном регламенте»: «Если посмотреть чрез историю, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие века, увидим все худшее в темных, нежели в светлых учением временах»…
Н. Челнаков. Подворье Феофана Прокоповича
«Светлые учением времена!» Феофан Прокопович видел их впереди, служил им. И понимал, что времена эти не настанут, если не бороться против «лжеучений» – схоластики, начетничества и против «лжеучености» – той беды, которую мы сейчас называем «образованщиной».
«Привиденного и мечтательного учения вкусивши, – читаем мы в «Регламенте», – человецы глупейши бывают от неученых, ибо… мнят себя бытии совершенных и, помышляя, что все, что знать можно, познали… не хотят больше учитися». «Есть учении, которые имени сего не достойны…» «Возымеет о себе мнение, что он мудрый – и от таковых нет горших бездельников…» Из таких – «враги властей, гордецы» – самодовольные, претендующие на посты, не способные признать своих ошибок. Не умеющие и не желающие всю жизнь учиться: «Просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем, но не перестает никогда учитися», – пишет Феофан.
Его педагогика нацелена на решение двух нерасторжимо связанных между собой задач: воспитания и образования; в этом двуединстве на первом месте – воспитание, в результате которого «грубость отпадет». Надо делать все, чтобы избегать в воспитании и обучении суеты, «суетного убытка» и скуки, чтобы жизнь, наполненная учением, была интересной.
Это поразительно, но почти три века назад ученый монах-энциклопедист Феофан в официальном документе, каким был «Духовный регламент», и в составленных им для своей школы «регулах» (правилах, нормах распорядка) чаще всего употребляет два слова: «остроумие» – острый, любознательный ум и «веселость», «веселье»… Учение должно быть «веселым», школа должна находиться «не в городе, но в стороне, на веселом месте, угодном, где несть народного шума». Речь идет о необходимости создания в школе особого настроения, устройства в ней жизни, заполненной учебным трудом, четко организованной – со строгими дисциплиной и надзором, с точным расписанием, в котором время учения и отдыха точно определено; во время прогулок, например, «не вольно никому учитися и ниже книжки в руках иметь… А гуляние было бы с играми честными и телоподвижными. Ибо сие и здравию полезно есть, и скуку отгоняет… Врачевание скуки», – пишет Феофан.
На этих принципах и основана выработанная Феофаном идея школы, которую он обозначает как «Сад Петров» («Петергартен»). Программа школы на Карповке, рассчитанная на «остроумного ученика», была программой светской школы. Духовный элемент образования (богословие – главные догматы православия и Закон Божий) явно стоял на втором плане. «Дела сего требует и самая крайняя Отечества нужда и польза Царскому Величеству, – читаем мы в письме Феофана секретарю Петра Алексею Макарову, – ибо в доме училищном не только богословское имеет быть учение…»
Программа была основана на «триязычном» (русском, латынь, греческий) принципе, причем все эти языки надлежало «правильно знать». Русский язык изучался живой, использовался «Лексикон» – «речений сокровище, собранное из разных новых и древних книг». Грамматика осваивалась в тесной и живой «межпредметной связи» с географией и историей: «Сие вельми полезно, ибо… когда невеселое языка учение толь веселым мира и мимошедших в мире говорится, что историю честь без ведения географического есть как бы с завязанными глазами по улице ходить…»
Гуманитарные предметы обучения – языки, «мир слова», история и география – составляли фундамент, на который опиралось «учение внешнее», продолжавшееся несколько лет и включавшее арифметику с геометрией, логику с диалектикой, риторику и поэзию, физику и метафизику, политику, римские древности, рисование и музыку.
«Таковое младых лет житие кажется быть стужительным и заключению пленническому подобно», – читаем мы в «Регламенте». И тут же это опасение отгоняется. Раз-два в месяц, летом, совершаются прогулки «на островы, к дворам загородным государевым и, хотя единожды в год, – в Санкт-Петербург». По праздникам в школе звучит «глас мусикийских (музыкальных) инструментов», а в летние каникулы проходят разыгрываемые учениками сценические представления под открытым небом и дважды в год – акции, диспуты, «риторские экзерциции» (открытые соревнования учеников в ораторском искусстве)…
«Школа на Карповке» была интернатом со строгой дисциплиной. Учеников отпускали на побывку домой лишь с третьего года и не дольше чем на неделю. Первые годы она была «частной» школой Феофана. «Несколько ребяток, при мне учимых и питаемых, – писал он в 1721 году, – потщуся очистить и угодные сделать пять изб в моем дому, где до 30 отроков вместить можно будет. Только б пропитание и одеяние их… было определено от Его Царского Величества…»
В «пропитании и одеянии» ученики «школы на Карповке» нуждались. Ведь набирались они из сирот, детей бедняков или людей «низкого звания» (мелких чиновников, солдат) – в отличие от контингента духовных школ здесь не было социальной замкнутости (только дети духовенства). Принимались в школу дети после «испытания памяти и остроумия» – в возрасте 10–12 лет («ибо в таком возрасте дети еще не вельми обучились злонравию, в если обучились, однакож не закрепили обычаем, и таковых нетрудно отучить»). А обучать этих детей должен был «учитель умный и честный (в другом месте сказано: добрый), который бы детей учил не только читать ясно и точно, но учил бы и разуметь». А «отучать» было обязанностью находившегося в каждой избе воспитателя («префекта») – человека «честного житья… не свирепого и не меланхолика», который за поведением и нравственностью воспитанников наблюдал бы «без поноровки» и наказывал провинившихся: малых – розгой, а средних и старших – «словом угрозительным»…
Так жила эта необыкновенная для своего времени «школа на Карповке», в которой за 15 лет обучилось 160 человек (в 1736 году в школе было 42 ученика). Среди ее питомцев мы встречаем имена людей, позднее ставших известными: Григорий Теплов – академик и сенатор, Алексей Протасов (сын солдата Семеновского полка) – академик, как и Семен Котельников, сын солдата Преображенского полка; в списке учеников последнего года встречаем Ульяна и Антона Калмыковых…
Огромная Россия – и одна такая школа. «Капля в море…», но, понимая это, мы не смеем недооценивать того замечательного педагогического начинания почти трехсотлетней давности, которое неразрывно связано и с городом нашим, и с одним из самых ярких и выдающихся современников и сотрудников Петра – мыслителя и оратора, писателя и педагога, историка и литератора Феофана Прокоповича…
Начало Кунсткамеры
Что в академии я видел – и не счесть:
Во-первых, восковой портрет царя там есть,
А также кабинет сокровищ и диковин,
С которыми в цене ничто не станет вровень.
Там господин Отец всех глобусов стоит,
Настолько же велик, насколь и знаменит.
Из посвященной Петербургу поэмы И. – X. Трёмера. 1735 год
Это здание и этот музей, основанный Петром Великим и носящий его имя, знает каждый петербуржец. Изящный силуэт венчающей здание Кунсткамеры башни давно уже стал одним из «знаков» нашего города, его образных символов. А Музей антропологии и этнографии, принадлежащий к числу музеев мирового класса и научного значения, – один из самых «модных» музеев Петербурга. И первый музей в России.
Его коллекции, начало собиранию которых положено Петром, не самые первые в нашей стране. Оружейная палата в Московском Кремле и «модель-камора» в петербургском Адмиралтействе по возрасту старше Кунсткамеры. Но первая была собранием великокняжеским и царским, а вторая – ведомственным; обе были не только хранилищами, но одновременно и производственными предприятиями. А Кунсткамера стала первым в стране публичным, открытым, общедоступным музеем. Ее создание было важной частью культурной реформы начала XVIII века – реформы, нацеленной на включение России в «европейское культурное пространство».
Идея собирания «куриозных» – необыкновенных, удивительных, чем-то «выходящих из ряда» – предметов принадлежала самому Петру и была естественным проявлением неукротимой и безграничной любознательности этого человека. Много сказано и написано о том, как Пётр покупал за границей целые коллекции (анатомические, минералогические, медалей, монет и др.), пользовавшиеся в начале XVIII века общеевропейской известностью. Путешествуя по Европе в 1716–1717 годах, встречаясь со знаменитыми европейскими учеными, принимая почести, которыми сопровождалось его избрание в Парижскую академию наук, Пётр сделал и немало приобретений для своей будущей «Куншт-Каморы», кабинета редкостей. В Данциге у доктора Готвальда куплена была богатая коллекция минералов, в Амстердаме Альбертус Себа продал царю свою знаменитую чрезвычайно разнообразную по составу и происхождению коллекцию «куриозов и самородных вещей» (чучела птиц, «чудественных странных зверей», африканских и американских «гадиков», насекомые, раковины, семена экзотических растений и пр.). В том же 1717 году у престарелого амстердамского анатома Фредерикуса Рюйша приобретается его знаменитая коллекция анатомических препаратов и различных «монструмов» – Пётр увидел эту коллекцию еще за 20 лет до того и был потрясен ею.
Но при всем этом нельзя воспринимать коллекцию петровской Кунст-Каморы только как сумму этих разнородных коллекций различного происхождения. Царь собирал свою коллекцию, и основным источником ее пополнения должна была стать сама Россия. Это – главная идея Кунсткамеры.
А. Рудаков. Кикины палаты
13 февраля 1718 года состоялся указ, которым царь поручал местным начальникам (губернаторам и комендантам) заботу о собрании и отправке в Петербург всех «натуралий и прочих раритетов», которые появлялись или находились на подведомственной территории. Вопреки распространенному мнению, что в Кунсткамеру собирались «уроды» человеческого и животного происхождения, программа будущего музея, предложенная Петром, была гораздо шире и интереснее. В указе говорилось: «Также, ежели кто найдет в земле или в воде какия старые вещи, а имянно каменья необыкновенные, кости… не такия, какия у нас ныне есть, или и такие, но зело велики или малы перед обыкновенным, также какия старые надписи на каменьях, железе или меди или какое старое, необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно – також бы приносили…»
Так, через несколько месяцев после возвращения Петра из полуторагодичной поездки по Европе было положено начало «Куншт-Каморе» – одному из крупнейший в мире музеев историко-культурного и естественно-научного направления. Он касался десятков наук, многие из которых (палеонтология или археология, например) еще не «оформились» к тому времени как самостоятельные научные дисциплины…
Собранные коллекции и их пополнение были «поручены в смотрение» лейб-медику царя 26-летнему Лаврентию Блюментросту. Сами коллекции были тогда же, вместе с библиотекой, перевезенной из Летнего двора, размещены в пяти комнатах (библиотека еще в трех) Кикиных палат. Штат Кунсткамеры в декабре 1718 года был определен в 9 человек.
Через два года иностранец, посетивший Кунсткамеру, отмечал, что «в нынешнем помещении уже тесно, так как там постоянно что-нибудь прибывает». Действительно, музей непрерывно пополнялся: сюда передаются серебряные ключи крепости Дербент, модели Иерусалимского храма, медали и монеты, купленные у Мушенброка, физические и математические инструменты. В 1724 году здесь появляются анатомические препараты, полученные при вскрытии тела «французского великана» Николя Буржуа, находившегося на службе у царя; из разных губерний присылаются разнообразные «монструмы». В Кикиных палатах Кунсткамера находилась ровно десять лет…
Одновременно с организацией самого музея начинается строительство специального здания для него. История этого «долгостроя», растянувшаяся больше чем на десять лет, интересна и сама по себе, и потому еще, что в ней выпукло отразилось то время – со всеми его особенностями и странностями, сменой ритма, «приливами и отливами», со всеми его положительными и дурными сторонами. Дата начала строительства нам точно известна. Но еще почти за полтора года до этого, когда царь путешествовал по Европе, 7 февраля 1717 года Меншиков писал главе Городовой канцелярии князю Черкасскому «о Куншт-Каморе» (следовательно, уже к этому времени было задумано ее создание), а Черкасский сообщал в ответ, что «на то место» (!) уже перевезено 45 тысяч кирпичей.
Здание Кунсткамеры. Фасад. Рисунок 1741 года
Под «тем местом» имеется, вероятно, в виду тот участок невской набережной на Васильевском острове, который (вместе с уже построенным домом самого Меншикова) «фланкировал» парадную часть этой набережной. Позднее на середине этой линии Доменико Трезини возведет здание «Двенадцати коллегий».
Существует, между прочим, легенда о том, что место это было во время одной из прогулок с Меншиковым по острову отмечено самим Петром: здесь росли две сосны, и ствол одной из них «пророс» в ствол другой – такой природный «раритет»…
Здание Кунсткамеры было вторым в Петербурге (после Почтового двора и не считая храмов) зданием публичного, общественного назначения и первым в России зданием специального культурного назначения.
В «Поденных записках» Александра Меншикова мы читаем, что 26 июня вечером (вот она, начальная дата!) он «ездил смотреть начатия строения библиотеки», но там же под 22 апреля отмечено, что Меншиков, находясь в своем доме, «вышел в переднюю полату и изволили подряжать строить его царского величества дом, в котором быть библиотеке».
Здание Кунсткамеры. Разрез. Рисунок 1741 года
Итак, решение о строительстве уже было принято, подряды оформлены, исполнение строительных работ было возложено на Канцелярию от строений, а «комиссаром» при этих работах назначался полковник Иван Ерофеевич Лутковский, бывший до того командиром Белозерского полка, – это свидетельствует о значении данного строительного объекта, о его «престиже».
И еще одно немаловажное обстоятельство: во всех документах, относящихся к первым годам этого строительства – вплоть до 1723 года, – строящееся здание именовалось только «библиотекой», «Кунст-Камора» присоединяется позднее. Главным в этом «симбиозе» первой общедоступной библиотеки и первого музея в стране была все же бибилотека!..
Об истории Кунсткамеры немало написано, но неиспользованными остаются сотни документов, многие из которых таят в себе загадки. Многое в этой истории еще остается неясным.
Это проявилось и в том «курьезе», который каждый приметливый человек может обнаружить не внутри, а снаружи самого здания. На разных его стенах – две разные доски, дающие различные сведения о времени окончания строительства (причем обе даты неверны) и о строивших это здание архитекторах: 1718–1727 и 1718–1734 годы; начата Матарнови и закончена Киавери – на одной и упоминание Г. Матарнови, Г. Киавери и М. Земцова – на другой. Архитектор Николай Гербель, строивший здание с 1719 по 1724 год, не упомянут нигде!..
Вопрос об архитекторах действительно труден; в описании, изданном в 1741 году, отмечается, что «палаты Академии наук строены от разных архитекторов». Это действительно плод коллективного творчества.