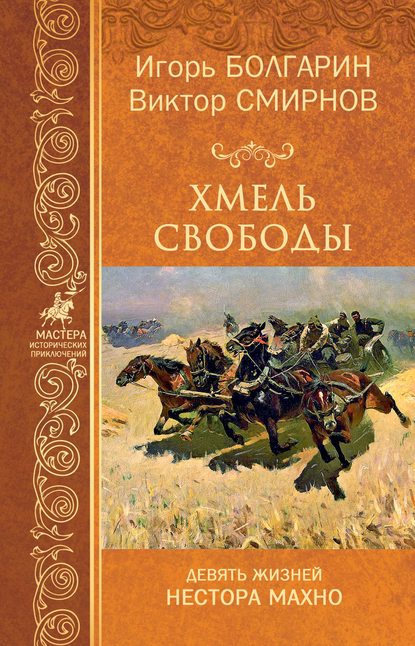По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хмель свободы
Автор
Год написания книги
2006
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Орудия, – ответил Нестор. – Анархисты с большевиками братаются коло станции.
– А что, такие пошли анархисты, что из винтовки их не взять? Пушку надо?
– Такие пошли, – нехотя ответил Махно. – А ты хто?
– Человек…
Старик достал спички, зажег щепу, подобранную под ногами. Приспособил ее в щель стенки. Щепа разгорелась, и теперь они могли рассмотреть друг друга.
В углу сидел махонький старикашка с голым черепом и седой бороденкой. Блестящие его глаза выдавали, впрочем, живой, вовсе не погасший ум.
– А как ты спички пронес, дед? – спросил Нестор. – Не обыскивали? У меня все выгребли.
– Да как не обыскивали!.. Обыскивали.
– Ну и как же?
– Да я, милок, в рукаве тещу могу пронести, если надо. Сорок лет из тюрьмы на волю, из воли – в тюрьму… А энти пока еще не умеют обыскивать. Учатся!
Канонада стала постепенно стихать.
– Кто-то кого-то прикончил, – мрачно сказал Махно.
– Известно кого, – отозвался дедок. – Анархистов.
– Почему так думаешь?
– А чего ж тут непонятного! Анархисты – вот! – Он растопырил пальцы ладони. – А большевики – вот! – Дедок стиснул кулак.
– Помолчи, – подошел к окошку Нестор. – Может, еще забухает.
Они долго прислушивались. Но стояла тишина.
– Хе-хе, – вздохнул старик и неожиданно продекламировал:
За любовь и участье к народу
Потеряем мы дом и свободу,
За любовь и участье к нему
Обретем кандалы и тюрьму!
– Сам сочинил? – спросил Махно.
– Не… Где мне! Это поэт такой был – Некрасов… великий человек! Точно уже не помню всех стихов, сам я не письменный, а один хороший арестант читал. Давно уж, в восемьдесят первом, аккурат когда царя убили…
За дверью раздались голоса. Звякнули ключи, прогремели запоры. Старик проворно погасил лучину.
Кого-то еще втолкнули во «внутрянку». Кого-то крупного, громко и сердито сопящего.
Когда дверь закрылась и шаги охранников стихли, дед вновь зажег свою лучину.
– Задов! – обрадовался Махно. – Левка!
Одежда на Левке была разорвана, лицо разбито, как можно было догадаться, ударом приклада.
– Ты, Нестор? От тебе на – встренулись! А я-то думал, ты умнее: смотался!
Нестор смотрел на него, ожидая пояснений.
– Ну шо? – с горечью сказал Левка. – Мы як услыхали, шо на станции нашего «Коца» колошматят, кинулись туда. А против нас на подходе – батарея трехдюймовок. И цела бригада. Ну и шо ты сделаешь? Сыпанули они шрапнелью. Сначала, правда, чуть в сторонку, шоб напужать. Только шапки од ветра послетали… Залегли. А лежачий разве может як след бомбу бросить? А тут ще два броневика подкрались… – Левка вдруг всхлипнул – огромный обиженный ребенок. – На наших глазах долбали «Коца», пока хлопцы белый флаг не вывесили вместо черного. Цусима прямо! И хто? Свои же! Большевики! Революционеры за счастье рабочее!.. Ну, повязали нас. Хлопцев куда-то на Степную, а меня сюда. Говорят, если я не соглашусь перейти в Красну армию, расстреляють. А соглашусь – почет и уважение, паек, одёжа!
Щепа погасла, но старик нашел под ногами новую лучину.
– Что ж, им тоже солдатики нужны, большевикам-то! – заметил он.
– Эх, не понимаешь ты анархической души, дед! – с надрывом сказал Левка, стуча себя в грудь. – Шо жизнь? Тьфу! Свободу отбирають!
– Как не понять-то? – ответил старик. – Я, браток, анархистом был, когда тебя папа с мамой еще только сотворяли…
– Да ну?
– Коромысло гну! Я, дружочек, первый анархист Заволжья, степной волк. Вы от запорожских атаманов пошли, а я прямо от Стеньки Разина и Емельки Пугача… Через их завещанную долю стал анархистом-самоучкой. Эх, погуляли мы по Заволжью, пожгли помещиков, побили офицеров – любо-дорого!..
– А счас-то за что тебя?
– А по той причине, что воля, она живет, только пока революция. Вон как огонек на лучине: пока лучина есть, он горит… А потом берет в руки власть тот, кто сильнее… А меня повязали сначала большевики, а потом выпустили, потому что народ меня слухает, а я выступать страсть как люблю перед людями… разжигаю огонек. А там, глядишь, и полыхнет… Ой, как иногда полыхает! – говорил он, зажмурившись и переживая сладкие воспоминания. – А потом опять повязали. Не пондравился чем-то. Вишь ты, я всяку власть воззывал сничтожать!
– Ножевой старичок! – с уважением произнес Левка.
Махно размышлял.
– Ну и шо ты решил, дедок? – спросил он у заволжского анархиста.
– Не покоряться и… принять смерть… Хочется мне какое-то геройство сотворить и через то в людских душах поселиться. Вот это и будет моя новая жизня. А другой не хочу.
– А нам что посоветуешь?
– Ну, вы еще молодые. Нельзя, чтоб вас так, без толку постреляли. Вам жить надо.
– Покорившись?
– Ну, сегодня покорились, а завтра разъярились… А ты, малой, – обратился он к Махно, – еще долго будешь скакать, как необъезженный конек… Бежать тебе надо.
– Бежать? А куда? На Украине немцы, здесь большевики… Да и как убежишь?
– Была б охота, а вода дырочку найдет. В Москву беги, там, говорят, правда. Кропоткин там, Петра Лексеич. Он народ понимает. Вон какую революцию сочинил – на всю Рассею революцию!
– А говорят, Ленин.
– Ленин, конечно, тоже. Но его, вишь ты, помощники окружили, из бывших авокатов, всю правду скрывають, на анархию наговаривають… А Петра Лексеич старенький уже, ему бы кого помоложе в подмогу. Примирить бы их, Ленина с Кропоткиным. И, может, снова будем в дружбе и понимании. Большевики, вишь ты, сначала тоже как анархисты были: все старое рушили напропалую, а преж всего армию! Ить как вначале сказано было: царску армию сменит вооруженный народ. А что вышло? Теперь этот самый вооруженный народ берут в тиски…
– А что, такие пошли анархисты, что из винтовки их не взять? Пушку надо?
– Такие пошли, – нехотя ответил Махно. – А ты хто?
– Человек…
Старик достал спички, зажег щепу, подобранную под ногами. Приспособил ее в щель стенки. Щепа разгорелась, и теперь они могли рассмотреть друг друга.
В углу сидел махонький старикашка с голым черепом и седой бороденкой. Блестящие его глаза выдавали, впрочем, живой, вовсе не погасший ум.
– А как ты спички пронес, дед? – спросил Нестор. – Не обыскивали? У меня все выгребли.
– Да как не обыскивали!.. Обыскивали.
– Ну и как же?
– Да я, милок, в рукаве тещу могу пронести, если надо. Сорок лет из тюрьмы на волю, из воли – в тюрьму… А энти пока еще не умеют обыскивать. Учатся!
Канонада стала постепенно стихать.
– Кто-то кого-то прикончил, – мрачно сказал Махно.
– Известно кого, – отозвался дедок. – Анархистов.
– Почему так думаешь?
– А чего ж тут непонятного! Анархисты – вот! – Он растопырил пальцы ладони. – А большевики – вот! – Дедок стиснул кулак.
– Помолчи, – подошел к окошку Нестор. – Может, еще забухает.
Они долго прислушивались. Но стояла тишина.
– Хе-хе, – вздохнул старик и неожиданно продекламировал:
За любовь и участье к народу
Потеряем мы дом и свободу,
За любовь и участье к нему
Обретем кандалы и тюрьму!
– Сам сочинил? – спросил Махно.
– Не… Где мне! Это поэт такой был – Некрасов… великий человек! Точно уже не помню всех стихов, сам я не письменный, а один хороший арестант читал. Давно уж, в восемьдесят первом, аккурат когда царя убили…
За дверью раздались голоса. Звякнули ключи, прогремели запоры. Старик проворно погасил лучину.
Кого-то еще втолкнули во «внутрянку». Кого-то крупного, громко и сердито сопящего.
Когда дверь закрылась и шаги охранников стихли, дед вновь зажег свою лучину.
– Задов! – обрадовался Махно. – Левка!
Одежда на Левке была разорвана, лицо разбито, как можно было догадаться, ударом приклада.
– Ты, Нестор? От тебе на – встренулись! А я-то думал, ты умнее: смотался!
Нестор смотрел на него, ожидая пояснений.
– Ну шо? – с горечью сказал Левка. – Мы як услыхали, шо на станции нашего «Коца» колошматят, кинулись туда. А против нас на подходе – батарея трехдюймовок. И цела бригада. Ну и шо ты сделаешь? Сыпанули они шрапнелью. Сначала, правда, чуть в сторонку, шоб напужать. Только шапки од ветра послетали… Залегли. А лежачий разве может як след бомбу бросить? А тут ще два броневика подкрались… – Левка вдруг всхлипнул – огромный обиженный ребенок. – На наших глазах долбали «Коца», пока хлопцы белый флаг не вывесили вместо черного. Цусима прямо! И хто? Свои же! Большевики! Революционеры за счастье рабочее!.. Ну, повязали нас. Хлопцев куда-то на Степную, а меня сюда. Говорят, если я не соглашусь перейти в Красну армию, расстреляють. А соглашусь – почет и уважение, паек, одёжа!
Щепа погасла, но старик нашел под ногами новую лучину.
– Что ж, им тоже солдатики нужны, большевикам-то! – заметил он.
– Эх, не понимаешь ты анархической души, дед! – с надрывом сказал Левка, стуча себя в грудь. – Шо жизнь? Тьфу! Свободу отбирають!
– Как не понять-то? – ответил старик. – Я, браток, анархистом был, когда тебя папа с мамой еще только сотворяли…
– Да ну?
– Коромысло гну! Я, дружочек, первый анархист Заволжья, степной волк. Вы от запорожских атаманов пошли, а я прямо от Стеньки Разина и Емельки Пугача… Через их завещанную долю стал анархистом-самоучкой. Эх, погуляли мы по Заволжью, пожгли помещиков, побили офицеров – любо-дорого!..
– А счас-то за что тебя?
– А по той причине, что воля, она живет, только пока революция. Вон как огонек на лучине: пока лучина есть, он горит… А потом берет в руки власть тот, кто сильнее… А меня повязали сначала большевики, а потом выпустили, потому что народ меня слухает, а я выступать страсть как люблю перед людями… разжигаю огонек. А там, глядишь, и полыхнет… Ой, как иногда полыхает! – говорил он, зажмурившись и переживая сладкие воспоминания. – А потом опять повязали. Не пондравился чем-то. Вишь ты, я всяку власть воззывал сничтожать!
– Ножевой старичок! – с уважением произнес Левка.
Махно размышлял.
– Ну и шо ты решил, дедок? – спросил он у заволжского анархиста.
– Не покоряться и… принять смерть… Хочется мне какое-то геройство сотворить и через то в людских душах поселиться. Вот это и будет моя новая жизня. А другой не хочу.
– А нам что посоветуешь?
– Ну, вы еще молодые. Нельзя, чтоб вас так, без толку постреляли. Вам жить надо.
– Покорившись?
– Ну, сегодня покорились, а завтра разъярились… А ты, малой, – обратился он к Махно, – еще долго будешь скакать, как необъезженный конек… Бежать тебе надо.
– Бежать? А куда? На Украине немцы, здесь большевики… Да и как убежишь?
– Была б охота, а вода дырочку найдет. В Москву беги, там, говорят, правда. Кропоткин там, Петра Лексеич. Он народ понимает. Вон какую революцию сочинил – на всю Рассею революцию!
– А говорят, Ленин.
– Ленин, конечно, тоже. Но его, вишь ты, помощники окружили, из бывших авокатов, всю правду скрывають, на анархию наговаривають… А Петра Лексеич старенький уже, ему бы кого помоложе в подмогу. Примирить бы их, Ленина с Кропоткиным. И, может, снова будем в дружбе и понимании. Большевики, вишь ты, сначала тоже как анархисты были: все старое рушили напропалую, а преж всего армию! Ить как вначале сказано было: царску армию сменит вооруженный народ. А что вышло? Теперь этот самый вооруженный народ берут в тиски…