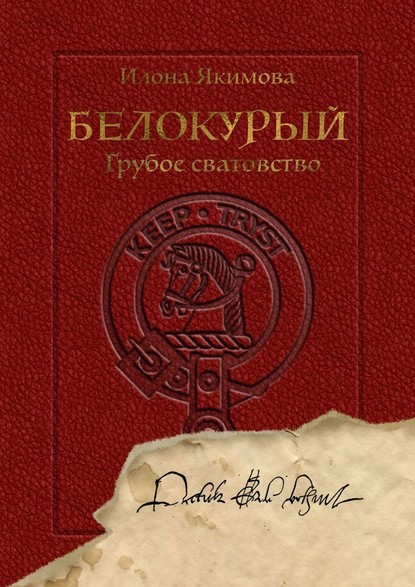По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аргайл, всхрюкнув, захохотал:
– Босуэлл, это скотство! Неужто не ясно, что с такой рожей, как твоя, только слепая баба не предпочтет твою милость?! Это шулерство, Босуэлл!
Сазерленд решил было протестовать, но вместо возмущенного восклицания горло ему сдавил спазм – и Хантли, подхватив родственника под руку, точным движением отправил парня снова за дверь. Остальные двое проследили за ним равнодушным взглядом.
– Лорды, желаю вам доброй ночи! – Патрик подвел итог вечеру. – И, Бога ради, научите пить Джона, который блюет сейчас у меня в передней – такая невоздержанность к вину и женщинам не доведет его до добра.
Когда храп и ржание коней, перекличка клансменов на грубом гэльском, лай собак, пятна горящих факелов, пляшущие в предутреннем тумане, возвестили, наконец, окрест, что дом вдовы Огилви исторг беспокойных гостей графа Босуэлла, сам хозяин все еще сидел в кресле, возле догорающего камина, водрузив сапоги на кованую решетку… и думал. Мысль, пришедшая ему за разговором с Джорджем – насчет освобождения кардинала – была дерзкой, но вполне оправданной, если глядеть со стороны и помнить всю его репутацию, сложившуюся до сего дня. А ведь Ангус – Господь с ним, не Ангус, конечно, но многоумный Джордж Дуглас Питтендрейк будет глядеть именно со стороны. Поверит ли он опять, как тогда, в двадцать восьмом году, будет ли пойман на эту приманку? Ненависти кровной и горячей присуще провидение, равное тому, что обретают люди в любви. Концовку предсказать невозможно, но попробовать стоило…
Он совсем забыл о ней, притаившейся за спинкой кресла. Хрипловатый прерывистый вздох, похожий на всхлип, вывел его из задумчивости, Босуэлл вздрогнул и взялся на дагу на поясе одновременно, когда услыхал робкое:
– Милорд?
Стояла возле кресла на коленях, готовая к услугам. Почему не ушла, интересно, когда он ей предложил? Испугалась, что Джон Гордон подкараулит снаружи? Посмотрел в обращенное к нему лицо: миловидная, но худая, как болотная крыса, светлые спутанные волосы, на скуле синяк, должно быть, от нежности Сазерленда. Небрежно провел кончиками пальцев по впалой бледной щеке. Она не отстранилась, стерпела, опустила глаза, но видно было, что ей для того потребовалось усилие. Молодая совсем, ей еще в новинку эти игры баронов. Отмывать и выводить вшей, прежде чем укладывать под себя. Откуда только глупый мальчишка ее вытащил?
Спросил мягко:
– Что встала-то? Проваливай.
Как завороженная, замарашка наблюдала: в холодном лице мужчины еле-еле проступает усмешка, куда более теплая, чем можно было ожидать, хотя и слабая, как отблеск зимнего солнца, и он становится не просто хорош собой, а пронзительно красив – у нее защипало в глазах, но скоро она опомнилась.
– Спасибо, ваша милость, – отвечала тихо и исчезла.
И помолись за меня – не прибавил теперь даже в мыслях. Молитвой в нем уже ничего не исправишь и не проймешь.
Рай не для Хепбернов – дядя был прав.
Бледный от выпитого и от недосыпания, хотя Ее величеству сказали – от усталости, ведь граф Босуэлл только вчера вернулся из Эдинбурга, от регента, стоял он, преклонив колено перед дамой своего сердца, которая жадно ждала новостей, имея основания полагать, что граф изложит ей их с сочувственной точки зрения. Белокурого красило утомление, придавая правильным чертам, помимо благородной холодности, некую утонченность. На минуту Мария де Гиз позволила себе задержаться взглядом на светлой голове, склоненной перед нею. Если ей нельзя думать о нем, как о мужчине, то кто сказал – и любоваться нельзя, как породистым животным? Она в достаточной степени владеет собой, она может с собой справиться. Босуэлл являлся во дворец всегда в окружении шумной свиты своих бойцов, от них шел запах порока, хаоса, грубости и разбоя ничуть не меньший, чем – кожи, крови, лошадиного пота, человеческого немытого тела. На фоне их рож, их манер он уверенно выглядел ангелом, хотя и ангелом падшим, но до такой степени привлекательным…
– Какие новости с юга, граф?
– Из столицы, Ваше величество? Не из тех, что могли бы порадовать мою королеву.
Поднялся во весь рост, подметая полой плаща изразцовые плиты пола – это прозвучало как шуршание чешуи гадюки по камню – и Мария внутренне содрогнулась. Как быстро Босуэллу удавалось переходить от светлой своей стороны к темной… и этот контраст всегда пробуждал трепет в ее душе – рябь глубинных ключей неостывающего влечения. Но она справится с этим.
– И, тем не менее, говорите!
Ее мягкий, властный голос действовал на Белокурого словно запах крови на волка, и думал он сейчас не об эдинбургских новостях, но о том, что слаще покорять властную, чем безвольную… а после молвил:
– Вряд ли я открою вам тайны сердца графа Аррана – я не был радушно встречен лордом-правителем, Ваше величество.
– Неудивительно. Он ведь знает, что вы уже были здесь, прежде чем поклониться ему.
Босуэлл удивился:
– Поклониться регенту? Боже упаси. Я хотел узнать только, чего стоит его хваленая справедливость к изгнанникам, возвращающимся на родину – и нашел, что для меня лично Джеймс Гамильтон сделал исключение… в довольно неприятную сторону.
Вот еще один пример для тех, думала королева, кто считает Джеймса Гамильтона глупцом – как бы не так! Пребывавший всю жизнь за надежной спиной Финнарта, теперь этот молодой человек заходит с козырей и показывает себя взбалмошным, непредсказуемым и потому опасным игроком. Верни он Босуэллу достояние – это приведет его к чудовищным осложнениям отношений с Ангусом, а Дугласы, родня Аррана по жене, ныне в большой силе… однако и Босуэлл вроде бы в родстве с братом регента, потому неизвестно, когда Аррану придет в голову переменить гнев на милость. Он может придерживать приграничника в ожидании, до поры, когда разочтется с Дугласами. И пока колеблется регент, она должна опереться своей слабой рукой на перчатку графа.
– Это опрометчиво с его стороны, – молвила Мария де Гиз и взглянула прямо в глаза Белокурому.
Так игра началась.
Если бы то был мужчина, Патрик Хепберн прочел бы в его лице неприкрытый вызов. Бедняжка, что ж, она думает, что выстоит в этой битве? Долгое мгновение мужчина и женщина смотрели друг на друга, и время остановилось, затем Мария де Гиз отвела взор и заговорила первой, по-прежнему мягко, с той легкой иронией, что равно сообщала словам ее и увлечение, и отстраненность:
– Да, опрометчиво… ибо тот, кто в эти бурные дни приобретет вашу поддержку, граф, весьма выиграет, я полагаю.
Сказала почти в точности его словами, только вчера обращенными к Хантли.
– Понятия не имею, о ком вы изволите говорить, – отвечал ей Босуэлл, – ибо моя поддержка уже обещана вам и нашей маленькой королеве. И мне казалось, я достаточно ясно выразил мои чувства. Мои люди и я сам в полном вашем распоряжении, госпожа моя.
– Вы выразили чувства, да… но чувства так переменчивы. Будете ли вы подлинно верны мне, граф?
– Вы желаете присяги, Ваше величество? Вам лично или нашей государыне?
– Согласитесь, милорд, что, ввиду слухов… – она помедлила, назвать ли прямо, ибо названная болезнь всегда горит жарче.
– А вы верите слухам?
Граф Хантли с живейшим интересом переводил взор с одного лица на другое.
Хантли был слишком придворный, чтобы видеть во вдове Джеймса Стюарта женщину, однако в достаточной степени мужчина, чтобы вполне понимать кузена.
– Хорошо… Ввиду прямого обвинения в измене, предъявленного вам моим покойным мужем, королем Джеймсом…
Да, если он ожидал, что вдова спелым яблочком скатится с ветки к нему за пазуху – он ошибался, тут придется потрудиться. Но ошиблась и королева. Таким уколом, вероятно, можно смутить рыцаря, но не рейдера. Босуэлл чуть склонил голову, лениво рассматривая изразцовую плитку пола – подвытершуюся с той поры, как он был в покоях королевы в последний раз – и молвил, дерзко, бесстыдно:
– Покорно прошу прощения, моя госпожа. Но следует ли верить обвинениям вашего покойного мужа, Царствие ему Небесное, и моего кузена Джейми?
Он не назвал Джеймса Стюарта королем, только кузеном.
– Вы забываетесь, граф!
– Отнюдь нет, – и поднял взор, упершись в лицо королевы пристальным взглядом, словно выставив вперед, на врага, дагу. – И не вам ли более всех прочих известна цена его обвинениям?
Джордж Гордон Хантли первый раз за всю сцену вдруг почувствовал себя чужим – как соглядатай при личном разговоре, словно эти двое знали нечто, недоступное посторонним. Мария де Гиз смотрела на графа Босуэлла, не веря ушам своим: не прежде ли, чем она сама призналась себе, он проник в ее тайну? – и легкая краска появилась в лице королевы-матери под самую малость насмешливым взглядом Белокурого. Нет, открытую усмешку он сейчас позволить себе не мог. «Не вам ли более прочих» – да он впрямую, прилюдно, обвинял ее как причину своих злоключений, своего изгнания! Но Патрик Хепберн, помедлив, вытянул иной козырь из рукава:
– Не вам ли ведома глубина той черной ночи, куда погружалась в те поры страждущая душа Его величества? Джеймс порой подозревал и самых близких, верных ему людей…
В многозначительной паузе королева ощутила легкий морозец по спине. Не успела она успокоиться, что ошиблась в подтексте его фразы, как добил новым намеком. Кто бы ни сказал ему, но доносчики у Босуэлла были отменные. Да, верно, Джеймс Стюарт в последний год едва ли не публично предъявил ей обвинение в супружеской измене – и с кем! С Дэвидом Битоном, архиепископом Сент-Эндрюсским!
– Граф, Джордж Дуглас Питтендрейк, прибыв из Лондона, прямо называл мне вас в числе «согласных лордов» Генриха Тюдора.
Босуэлл пожал широкими плечами, зашуршала черная тафта плаща, свечной отблеск перемигнулся на алом шелке вышитых львов:
– Верить Дугласам, Ваше величество – все равно, что верить дьяволу.
– Возможно, – согласилась королева не без иронии. – Но безопасней ли верить Хепбернам? Не вас ли мой муж прозвал Люцифером, а вовсе не Джорджа Дугласа?