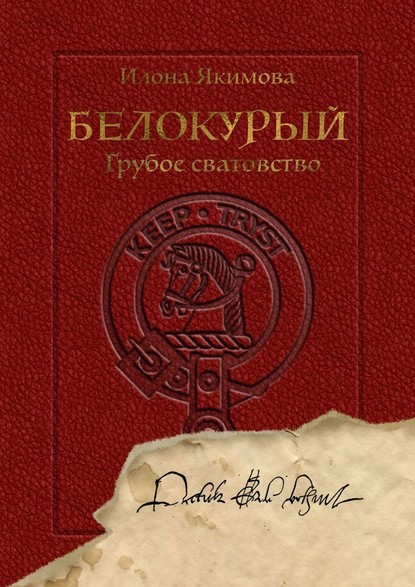По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В январе он поклялся мне в том за верное, однако меня уверили после, что речь шла только о слабом здоровье девочки…
– Моя дочь достаточно крепка и здорова для своего возраста, отличается отменным аппетитом и, даст Бог, статью пойдет в меня… Королю Генриху не придется стыдиться такой невестки.
– Отчего же вы до сей поры не выразили своего намерения отчетливо, Ваше величество? Мой король будет счастлив услышать, что ваши мнения относительно будущего королевы Марии столь тождественны…
– Но каким образом это удалось бы мне, позвольте спросить? – бегло улыбнулась де Гиз, рука ее несколько нервно сжала темные четки – бусины тихо скрипнули в ладони, и только этот звук безжалостно выдал тайну – королева-мать волнуется. – Регент перехватывает всю мою переписку – о, для ее самой безопасной доставки, разумеется – но отчего-то она теряется в дороге все чаще. А как скоро мне бы пришлось ждать штурма дворца – едва лишь я достоверно дам понять вашему королю, что согласна на его предложение? Или вы полагаете, что Арран станет медлить, увидев, что добыча уплывает из рук? О, вы не знаете этого человека! Не так он прост, как желает казаться…
– Мне думалось, – повторил Садлер давнишнюю фразу Генриха Тюдора, – что регент ваш не то, чтобы прост, но обыкновенный болван.
Он сказал это только чтобы посмотреть, проглотит ли де Гиз наживку, но рыбка сорвалась с крючка.
– Не более, чем желает казаться, – повторила королева-мать и тотчас сменила тему. – То, что вы сегодня здесь – просто милость Божья! Ах, добрый друг мой, только вам одному я могу по-настоящему довериться…
Она, эта француженка, была столь убедительна в своем одиночестве, в своей печали – едва ли не слезы на миг блеснули в серых глазах… Садлер поневоле залюбовался:
– Тогда скажите мне, как другу, Ваше величество… Говорят, в Дамбартоне высадился Мэтью Стюарт, граф Леннокс, во главе французских гвардейцев, и говорят также, что вы уже обещали ему свою руку, или же руку вашей дочери – в обход нашего принца…
Но королева лишь рассмеялась:
– Сэр Садлер, мало ли о чем говорят в Шотландии! Вы полагаете, граф Леннокс станет дожидаться пятнадцать лет, покуда моя дочь войдет в детородный возраст? С его стороны это было бы довольно глупо.
– Не так уж глупо, когда речь идет о короне. Но вы-то сами, мадам, – позволил себе улыбнуться в ответ Садлер, – вполне в детородном возрасте, и так прекрасны даже в сем скорбном наряде, что я не удивлюсь, если гвардейцы Леннокса сокрушат и разгонят стражу регента здесь, в Линлитгоу…
– О! – в лице Марии коротко прошла тень. – На этот счет и вы, и ваш повелитель можете иметь полную уверенность. Хороша бы я была, выйдя замуж за… графа, когда сейчас я – вдова его государя. Мыслимо ли так унизить себя своими собственными руками? Графиня Леннокс – я, вдовая герцогиня Лонгвиль? Я – вдова Джеймса Стюарта?!
Повисла пауза, в которой королева-мать прошла несколько шагов взад-вперед по кабинету, слышно было только, как возится за ширмой в спальне фрейлина, как шуршит, подобно птичьему крылу, по изразцовому полу жесткий черный шелк ее юбок. Молчал и Садлер, вовсе не убежденный ее словами, и Мария ощутила это недоверие его молчания.
– Никогда, – веско сказала она, остановясь напротив посла, – никогда я, королева Шотландии, которую мой покойный супруг короновал, как соправительницу, не уроню себя настолько, чтобы сделаться женой своего подданного!
Величественна, умна, изворотлива, смела, красива, но так одинока, думал Ральф Садлер, откланиваясь.
Да, смертельно одинока – и скоро падет.
Казна была пуста. Не именно казна королевства, но ее собственный кошелек, откуда королева могла бы черпать в поддержку своих сторонников, потому что доходы коронных земель поступали в распоряжение графа Аррана, который их тратил, как регент, то есть, целиком и полностью на себя, а вдовью долю денег удерживал. На границе стояли войска англичан, и Генрих Тюдор прямо сообщил ей через Садлера, как прежде – через Аррана, что ей следует смириться, помолвить дочь с принцем Эдуардом, выдать маленькую Марию в дом жениха, отправить в Англию, где она и станет воспитываться до брака… а Тюдор мнил себя уже и регентом, и протектором королевства Шотландия. Но долго ли проживет ее дитя, даже если и посчастливится достигнуть Лондона? У англичан-то, которые со времен Длинноногого претендовали на землю Шотландии, как на свою собственную вотчину? У Аррана – всё, деньги, войска, Эдинбургская скала и Парламент, он живет в Холируде, как сам король, окруженный бывшими лордами короля, пользуется Гардеробом короля, за ним ухаживают слуги короля… Арран выставил вокруг ее собственного дворца Линлитгоу три кольца аркебузиров и запретил ей переехать в Стерлинг – тоже, по условиям вдовьей доли, ее собственный замок, и верные люди прямо цитировали Марии де Гиз письмо Тюдора к Аррану, в котором тот велел заточить ее на этом озере навечно и любой ценой разлучить с дочерью, лишь бы она, эта скользкая француженка, стала сговорчивей. У Аррана – всё, а теперь еще и Дугласы. Вернулся Ангус и, примирившись с Арраном, занял Танталлон, вернулся дьявольски увертливый Питтендрейк. Втроем они избавились от единственного человека в Совете, кто мог бы хоть изредка отстоять ее интересы – Дэвид Битон, католический примас Шотландии, архиепископ Сент-Эндрюса и канцлер королевства, впрямую говорил о том, что из графа Леннокса получился бы лучший король, чем из кого бы то ни было, однако из неприязни к своему двоюродному брату Аррану часто брал сторону королевы-матери. Не за французскую вдову, но против англичан, говорящих устами регента. Дэвид Битон играл свою партию, но с Марией его связывали долгие, теплые отношения, настолько дружеские, что позволили покойному королю обвинить жену в прелюбодеянии с прелатом – в полном бреду, конечно. Дэвид Битон был сейчас, если слухи верны, под стражей в Далките у Дугласов, и ее робкая попытка намекнуть Садлеру на то, что освобожденный кардинал из благодарности станет поддерживать прожект английского брака, натолкнулась если не на прямую иронию посла, то на понимающую улыбку… это была единственная ошибка в их разговоре, за которую королева горько корила себя. Дважды вдова двадцати семи лет, внезапно оказавшаяся родительницей последнего законного отпрыска династии Стюарт по прямой линии, вот уже три месяца она терпеливо собирала сторонников, но самой острой ее заботой стало выжидать и не сделать неверного шага. Еле скрипнула дверь между кабинетом и опочивальней, дама в черном отдала быстрый реверанс, встав со скамеечки возле камина, а Мария опустилась в кресло, растирая запястье левой руки, затекшее под траурным браслетом – львы, орлы, снова львы, лилии и крест, соединенные воедино, их с Джеймсом гербы – последнее украшение, на котором их символы появились вместе.
– Кларет, Ваше величество?
– Горячий сидр… немного.
Леди Флеминг пережила с ней все, что было в Шотландии, с первого дня – свадьба, короткое счастье первого года брака, трое родов, две утраты, дни черной меланхолии мужа, теперь вот – вдовство, скорбь, тревогу и заточение. Умная, язвительная, скорей привлекательная, чем красивая, она стала для королевы больше подругой, чем фрейлиной.
– Англичанин отбыл, Ваше величество?
– Да…
– Что вы сказали ему?
– Правду, моя дорогая. Что моя дочь здорова, а регент держит нас взаперти. И достаточное количество неправды, да просит меня Господь, чтобы обезопасить нас обеих.
– И он поверил?
– Узнаем позже. Теперь мне было достаточно вбить клин между ним и графом Арраном. Но, боюсь, я зря упомянула при нем о кардинале… – она приняла из рук леди Флеминг чашу с сидром, от которого шел острый запах имбиря, корицы и кардамона, горячее шершавое серебро под ладонью было грубоватым и осязаемым, телесность… вот именно то, что ей нужно сейчас, что отделяет ее от смертности, заставляет собрать все силы и жить. – Вы можете поприветствовать своего супруга и поблагодарить его от моего имени, в эту пору года и время суток он выдержал долгий и тяжелый путь, чтобы сопроводить сюда посла.
– Благодарю вас, Ваше величество, – фрейлина вновь присела, а когда повернулась к королеве проститься и пожелать доброй ночи, мигающий свет свечей, оплывающих в шандале, оросил брызгами золота волосы оттенка темного меда, двумя крыльями уходящие от середины лба под чепец, резкий профиль, широко расставленные яркие глаза, тонкую складку губ… и Марию де Гиз сейчас больно укололо в чертах леди Флеминг сходство с тем человеком, который недавно прибыл ко двору, тем паче, что и само имя его прозвучало мгновеньем позже.
– Я слыхала, – молвила леди Флеминг, чуть поколебавшись и помолчав, – что мой кузен почтил родину своим присутствием, что он третьего дня был во дворце… Ах, дорогая мадам, поверьте моему вещему сердцу: приблизить Босуэлла для вас куда худший выбор, чем обещать свою руку Ленноксу!
– Дженет, – королева редко называла ее по имени, а потому леди Флеминг дорожила каждым таким мгновением, – дорогая Дженет, знаю, вы меня любите, но ваша забота порой бывает чрезмерной. Приближение Босуэлла или обещание Ленноксу – только средства… Мне нужна коронация моей дочери, коронация любой ценой. И мой Стерлинг, где до нас не доберется никто. Ради этой цели, видит Бог, я стану улыбаться и самому дьяволу!
У самого дьявола было крещеное имя.
Патрик Хепберн, третий граф Босуэлл. Белокурый Люцифер, как назвал его Джеймс в Сент-Эндрюсе, в прежней жизни, тысячу лет назад, представляя кузена супруге. Три обвинения в государственной измене, два заключения, одно изгнание – без срока, с конфискацией всех владений и доходов, так скоро оборвавшееся только со смертью короля. Когда он третьего дня преклонил колено перед ней, выходящей из большого зала Линлитгоу, когда за спиной его во тьме коридора колебались факелы в руках кинсменов… в трауре, в черной тафте плаща, шуршащего по плитам пола, словно змеиная кожа, он выглядел посланцем мрака, несмотря на светлое лицо архангела – и думала она о нем вот уже третий день, даже теперь, стоя на молитвенной скамье. Лицо его не переменилось в изгнании и лишениях, не поблекло с возрастом или от распутства, как можно было ей надеяться для собственного спокойствия, но не о внешнем облике думала Мария де Гиз, вдова Джеймса Стюарта. А о той силе, власти, мощи бывшего Лейтенанта Юго-востока, Хранителя Средней Марки и Долины, что таились под тафтяным плащом с вышитыми алыми львами и розой. Львы, охраняющие розу. Или дерущиеся за нее…
Роза и львы, кровь Плантагенетов и Стюартов.
Он был отчаянно нужен королеве.
Минуя греховные мысли, которые этот мужчина, к великому смущению, продолжать пробуждать в ней – он нужен был Марии, как королеве. Стоило только Патрику Хепберну два года назад ступить за границу королевства, как в Лиддесдейле, лэрдом которого, формально, он не являлся уже давно, начался форменный ад. Люди короля не осмеливались приближаться к Долине, прямо твердя, что это земля греха, и живым оттуда не выберешься. Рейдеры, озлобленные на Стюарта еще с тридцатого года, либо встречали клинком, либо уходили в леса и болота, заматывая погоню. Разбой шел волной, смывая своих и чужих, Спорные земли кипели угонами скота, поджогами, убийствами целых семей. Кровная вражда и сопровождающая ее резня вышли на новый виток. Закаленный в любых передрягах Бранксхольм-Бокле наружно пытался вернуть на сворку и своих парней, и ошалевших от крови и безнаказанности Эллиотов, лукаво сетуя, что в сии трудные времена с людьми вовсе сладу нет, однако в Спорные земли не совался и он. Подняли голову Армстронги, и лэрд Мангертон, как прежде, стал королем воров – брат его Дэви в своих налетах жег фермеров заживо. Отличились все – и Маршаллы, и Тернбуллы, и особенно, в Средней марке, Керры, вновь перегрызшиеся даже между собой. На этих бесстыдных тварей невозможно было положиться в час войны, в годину бедствий. На Солуэй отправились люди равнин, непригодные для войны в холмах, а также те, кто вышел в рейд на Артурет-Чёрч за наживой, те, кто остался верен своим лэрдам, но не королю; с неприятным изумлением Мария узнала, что именно там впервые показался стяг Белой лошади после двух лет тишины – и прочла этот знак именно так, как граф и задумал, угрозой. И после она ждала Босуэлла ко двору – ждала дольше, чем предполагала ждать. Это было неизбежно, его возвращение, как любого другого изгнанника, волей покойного короля лишенного чести, земель и родины. Но она и смертельно боялась возвращения Босуэлла – тысячу раз да – не только потому, что ее волновал мужчина, но потому, что беспокойством сводил с ума враг. Она не питала иллюзий насчет его верности – его верность стоит столько, сколько сможет она заплатить, но казна сейчас в руках графа Аррана, лорда-правителя королевства, ее же собственные средства, как вдовы, удерживались регентом именно с целью, чтобы она не сумела купить себе сторонников. Граф Босуэлл, из-за Джеймса Стюарта утративший в Шотландии всё, несомненно, захочет вернуть свое достояние, но тот, первый взгляд, обращенный на королеву, вполне объяснял его подлинные притязания, помилуй Бог. Так что же по-настоящему привяжет его – возврат земель и доходов, который по силам регенту, или мужское вожделение, для которого королева стала теперь беззащитной целью? Чью сторону он изберет? Или, как всегда, как про него злословили – сразу обе? Или все три, если учесть его тесную связь с англичанами, которую, впрочем, еще никому не удалось подтвердить документально? Если кто и знает, так только его троюродный брат и ближайший друг при дворе, ее доверенное лицо, член регентского совета Джордж Гордон, граф Хантли.
– И если этот клятый приграничник останется сидеть за твоим столом, а не лежать под ним, считай, я с тобой в ссоре, Хантли! – буркнул, выходя, граф Аргайл.
Патрик Хепберн только улыбнулся ему вслед. Гиллеспи Роя Арчибальда Кемпбелла, четвертого графа Аргайла, он знал еще с юности, со времен бесшабашных каникул у Джорджа в гостях, и, право, за последние пятнадцать лет тот ничуть не изменился. Излишняя чувствительность, как таковая, была вовсе не свойственная племяннику епископа Брихина, однако Белокурый впервые за два с лишним года наконец-то снова был как рыба в воде. Попойка в честь возвращения Босуэлла ко двору удалась: лорд Джордж Ситон, конечно, ушел своими ногами, но графа Сазерленда, миловидного юношу восемнадцати лет, слуги вынесли четвертью часа раньше – молодому Джону Гордону не удалось угнаться за четырьмя тридцатилетними выпивохами, двое из которых были горцы, а третий – рейдер.
Теперь старые друзья остались вдвоем.
– Итак, ты вернулся?
Камин в покоях графа Хантли пылал, как в аду, что ничуть не лишне в холодном марте. И виски отменный – с собственных вискикурен Хантли, с золотой искрой, с торфяным дымком, Босуэлл наслаждался каждым глотком, перекатывая жгучую влагу на языке.
– Вернулся, Джорджи…
– Надолго ли?
– Там посмотрим.
– И что ты намерен делать?
– Что делать? Ну, почему мне все задают этот странный вопрос? Ничего, ровным счетом ничего, Джорджи… развлекать себя в меру своей испорченности, насколько это возможно при дворе благочестивой вдовы.
– Ничего?! Ах ты, скользкая тварь! Кому ты врешь, Босуэлл? Ты нагло врешь родственнику, другу и сообщнику по стольким невероятным проказам! Как будто я поверю тебе хоть на миг… но откуда ты взялся, черт везучий?! Да еще так вовремя? Никто ж не знал про твое возвращение, и я слышал, как там ахали в галерее, пока ты проходил меж людьми – да, это было красиво! Держу пари, ни одна живая душа не подозревала, что ты уже здесь, и явился требовать свое законное место при дворе.
– Ну, почему ж… кое-кто знал. Хей и Клидсдейл, к примеру…
– Твои рейдеры не в счет.
– И те, кто не поленился прочесть штандарты на Солуэе…
– Там была пятиконечная звезда Бинстонов.