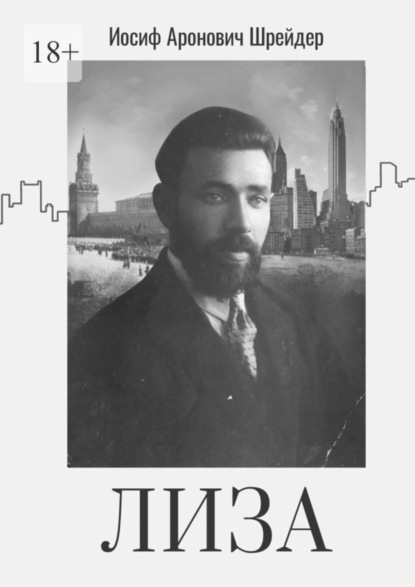По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лиза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего особенного ты не говорила, – поспешил я её успокоить. – Я с большим интересом слушал тебя. О себе я обязательно расскажу в следующий раз. Скучно тебе не будет, но всё же я побаиваюсь, как отнесёшься ты ко мне после моего рассказа, я имею уж горький опыт, не покажусь ли я тебе после этого вертопрахом… ты такое слово слышала?
– Слышала, мои родные и так тебя называли. Но я уж тебе говорила, что не покажешься.
– Раньше времени не зарекайся!
– Иосиф, ты меня обижаешь своим недоверием. Или ты тоже считаешь меня ограниченной мещаночкой и что я сужу обо всём, как это принято правилами поведения, а своего собственного мнения не имею?
– Нет, ты мне такой не кажешься. Так когда же мы с тобой увидимся?
– Знаешь, завтра я не смогу… Приходи послезавтра вечером, и мы снова побродим.
– Тогда давай сделаем так, чтобы мне к тебе не заходить, я тебе назначу свидание. Тебе когда-нибудь приходилось ходить на свидания?
– Представь, что нет! – засмеялась Лиза.
– Тем лучше! Это будет твоё первое свидание, – рассмеялся и я. – Тем интереснее тебе будет. Давай условимся так, я буду ждать тебя к семи часам на Тверском бульваре у памятника Пушкину… это от тебя недалеко. Если немного запоздаешь, не беда, я подожду. Так договорились, хорошо?
– Хорошо!
VI
В условленный вечер Лиза пришла к памятнику Пушкину с небольшим опозданием. Хотя было очень тепло, у неё через руку было перекинуто летнее пальто. Я усмехнулся.
– Чему ты усмехаешься? – спросила Лиза.
– Твоей предусмотрительности, – кивнул я на пальто. – Ты мне всё-таки не доверяешь.
– Совсем не в этом дело, – покраснела Лиза. – Может стать прохладно, а сидеть так, как в прошлый раз, не совсем прилично. Не забывай, что я всё же мать семейства…
– Это как раз я и забываю. Никак не могу привыкнуть к этой мысли, мне всегда требуется какое-то усилие, чтобы вспомнить об этом. Так куда же мы сегодня направимся?
Лиза огляделась и сказала:
– На бульваре так хорошо, и я была бы не против посидеть здесь… признаюсь, в прошлый раз я сильно устала, да и рассказывать тебе будет лучше. Я настроилась сегодня только слушать.
– Пусть будет по-твоему… поищем укромное местечко.
Вскоре мы нашли незанятую скамейку и сели.
– Так, с чего начать? – спросил я.
– С самого начала! – улыбнулась Лиза.
– Легко сказать, с самого начала… Ну хорошо! – И, немного подумав, я начал свой рассказ.
– До пятого класса гимназии я мало чем отличался от того мальчика, каким ты меня знала в детстве. Был я способным учеником и примерного поведения. Правда, звёзд с неба я не хватал, но по успеваемости с пятого по седьмое места были мои, а если учесть, что в классе было тридцать – тридцать пять учеников, то это совсем не плохо. Словом, я был таким учеником, которого ставят в пример и учителя, и родители. Это, конечно, мне льстило. Само собой разумеется, в то время гимназистки для меня не существовали, а если и существовали, то как нечто от меня не зависящее, с чем волей-неволей приходится мириться.
Но вот в пятом классе, совершенно неожиданно, во мне произошло, если выразиться образно, что-то похожее на дворцовый переворот. Я влюбился, до самых высших пределов обожания, в гимназистку шестого класса Сару Саражинскую – её так и звали «Сара-Сара», конечно, мне незнакомую. Тебе не трудно догадаться, что она была самая красивая во всей гимназии. Она была светлой блондинкой, чуть выше среднего роста, с почти оформившейся фигурой и жизнерадостным прекрасным лицом. Восьмиклассники, а они почти взрослые дяди, наперебой за ней ухаживали. Моё обожание к ней достигло той степени, когда я уж ни минуты не мог, чтобы о ней не думать. Я перестал даже готовить уроки. Моё обожание было настолько велико, что у меня даже не являлось желания с ней познакомиться. Мне было достаточно, если представлялась возможность лишний раз взглянуть на неё.
Всё стало наоборот. Раньше на гимназических вечерах и спектаклях мне больше по душе было действие, и я не выносил длинных антрактов; теперь я дожидался антрактов с вожделенным нетерпением, и чем антракты были длинней, тем я больше радовался, так как, прогуливаясь по длинному гимназическому коридору, я имел возможность лишний раз взглянуть на свою избранницу. Вечера танцев, которые раньше для меня не имели никакого значения, и я их не посещал, теперь стали самыми привлекательными, потому что весь вечер ничто не мешало мне не сводить с неё глаз. Я даже вступил в танцевальный кружок и начал учиться танцам, в тайной надежде, что когда-нибудь решусь пригласить её.
Всё это было моей тайной, никому не ведомой. Мои успехи в школьных занятиях круто покатились под гору. Но что самое странное, я и теперь не могу себе этого объяснить: несмотря на переживаемые мною возвышенные, чистые, никогда не испытанные чувства, в классе, неожиданно для всех, я стал самым заядлым озорником и заводилой.
Я не любил глупого озорства: подложить что-нибудь на стул преподавателю, выморозить класс перед его приходом, зажечь вонючую тряпку, чтобы пахло палёным, или вымочить классную доску, чтобы на ней нельзя было писать мелом. Я предпочитал заводить с преподавателями словесные поединки, причём остроумные и на такой грани, что класс грохал от смеха, а преподаватель хотя и понимал, что он допускает какую-то оплошность, но повода придраться не имел, тем более что ранее я всегда был примерным учеником.
Вскоре моя, с позволения сказать, слава стала предметом обсуждения не только в учительской, но и в городе. В это же время я увлёкся бильярдом, что было для гимназистов строжайше запрещено, а значит и более заманчиво, так как надо было быть изобретательным, чтобы не попасться на глаза надзирателю или преподавателям. Я начал курить. Как это всё уживалось с тем чувством возвышенного обожания, которым так переполнено моё сердце, – одному богу известно, в которого, кстати, в это время я перестал верить. Ложился я спать – думал о ней, в надежде, что завтра увижу её, просыпался утром с радостью и благодарностью, что она живёт.
Но этой любви пришёл внезапный трагический конец. Любящее сердце способно предчувствовать. Незадолго до трагического события я как-то стоял на балу позади Сары. Меня поразила необычайная белизна её шеи. Подсознательно мне показалось: такую белизну накладывает на юность смерть. Как бы невероятной ни показалась подобная мысль, сердце защемило невыразимой тоской. Увы, это было ясновидение.
Сара каталась на катке, простудилась и буквально в несколько дней сгорела. Её трагической кончиной был ошеломлён весь город. Она была, это можно сказать без преувеличения, всеобщей любимицей. За её гробом шли не только все гимназисты и гимназистки, но и много другого народа.
Не подозревая, она унесла с собой в могилу мою первую, большую, кристально чистую любовь. Вот когда первый раз мир для меня опустел, лишился радостных красок, потускнел. В сердце образовалась такая пустота, которую я ощущал почти физически, пустота, приносившая невыносимое страдание. Это продолжалось долго. Но мне было пятнадцать лет. Инстинкт жизни подсказал, что пустота должна быть заполнена, иначе сердце сожмётся, превратится в сморщенный чёрствый комок. И тут появилась Зиночка Мерш, красивая шатенка с тёмно-синими глазами. С ней всё было иначе. Это тоже была платоническая любовь, но не на расстоянии. С ней я танцевал и много гулял, и даже были робкие крепкие поцелуи. Продолжалась эта любовь недолго и кончилась безболезненно, сама собой. Было ещё несколько увлечений, удачных и неудачных, но увлекался я, как правило, только хорошенькими девочками, и притом такими, у которых были поклонники.
В то же время моя озорная слава росла. Уроков я почти не учил, довольствовался тем, что слушал в классе. О моих проделках в городе даже начали ходить анекдоты, зачастую преувеличенные. Дело дошло до того, что в седьмом классе (это было при Колчаке) был поставлен вопрос о моём исключении из гимназии, но посчитались с тем, что у меня незадолго до этого умер отец и для большой семьи, в которой я был старшим, это будет сильным ударом, и ограничились, в качестве профилактической меры, исключением на шесть недель.
Вскоре в городе была восстановлена советская власть. Гимназия была реорганизована в семиклассную единую трудовую школу, которую с грехом пополам закончил. Летом я уехал в Томск и поступил в университет. Сначала я избрал медицинский факультет, но, попав в анатомический музей, испугался вони и трупов, перевёлся на факультет общественных наук на правовое отделение.
Осенью, перед началом занятий, всех студентов мобилизовали на проведение Всероссийской переписи. Я был включен в группу, которая должна была направиться в Омскую область. В эту группу попала совсем юная студентка Оля Шуппе, с которой у меня возникла первая настоящая любовь. Возникла эта любовь при совершенно необыкновенных обстоятельствах, закончилась пощёчиной, единственной в моей жизни, которая, наверное, долго будет гореть на моей щеке. Но об этом рассказывать долго, – вздохнул я.
– Расскажи, пожалуйста, – чуть не взмолилась Лиза. – Это же очень интересно!
– Нет, об этом рассказывать нужно долго, пожалуй, не хватит и целого вечера. Если захочешь, я с удовольствием расскажу эту историю в следующий раз. В одном могу тебя заверить, я не позволил ничего оскорбительного по отношению к ней. Я проявил неосторожность, рассказав сон, главной участницей которого была Оля. Ей всё пересказали в извращённом виде, и она восприняла это как невыразимую пошлость, грязь и немыслимое оскорбление своей любви.
С переписи я вернулся, в полном смысле этого слова, с разбитым сердцем, охваченным тоской и мучительными думами об Оле. С таким настроением я и приступил к занятиям в университете, к которым так стремился. Олю я, конечно, встречал и в университете, и на лекциях, но она, очевидно, обладала твёрдым характером: я ни разу не заметил, чтобы она посмотрела в мою сторону. Подойти к ней объясниться я так никогда и не решился.
Учение шло с пятого на десятое. Нас часто отвлекали на заготовки дров для университета и многие другие физические работы. С этим ещё можно было бы мириться, мы были молоды, тяжелее было переносить голод. Студенты получали паёк, фунт хлеба и обед. Обед состоял из супа с мороженой картошкой, а на второе – мясные котлеты, большей частью с душком, с гарниром из немолотой пшеницы. В изобилии был только красный перец, которым мы усердно сдабривали и душок котлеты, и однообразие гарнира. Хлеб и обед проглатывались с необыкновенной быстротой и попадали в желудок, словно в бездонную яму. Сытости никакой, только горло першило и горело от перца. Голод давал себя знать в самые неподходящие моменты. Сидишь на лекции или читаешь в университетской библиотеке – и вдруг ловишь себя на том, что думаешь не о предмете, а обо всех кусках хлеба, какие ты не доел в своей жизни. Но всё же жили весело: танцы, вечера, студенческие диспуты не пропускались. Устраивались и студенческие вечеринки с угощением, которое приобреталось вскладчину. Угощение состояло из ржаных пирожков с начинкой из конского мяса, запивалось морковным чаем с кусочком глюкозы. Нельзя сказать, что мы облизывались от удовольствия, но съедалось всё с отменным аппетитом и приправлялось остроумными и веселыми шутками. Зачёты с трудом, но сдавали, и, пожалуй, не столько благодаря приобретенным знаниям, сколько либеральному отношению к нам профессоров.
Весной моё внимание обратила на себя одна студентка лет двадцати трёх. Обратила она моё внимание тем, что её часто можно было видеть в окружении студенческого начальства (тогда ключевые посты занимали студенты-партийцы, в большинстве тридцати—тридцатипятилетние), и тем, что её внешность резко бросалась в глаза, она выделялась из массы студенток.
Я не подозревал, что это женщина сыграет в моей жизни значительную роль. Внешность её, безусловно, заслуживает описания. Среднего роста, светло-рыжая, с причёской, которую, кажется, носили в первой половине девятнадцатого века, расчесанной на прямой пробор и спущенными по бокам длинными, кольцеобразными буклями, круглое полное лицо, поражающее свежестью кожи и нежным розовато-белым цветом, свойственным рыжим женщинам. Красиво очерченная алебастрового оттенка шея, высокая грудь, тонкая талия, подчеркивающая прекрасные бёдра, стройные красивой формы, чуть полные ноги невольно заставляли с восхищением её рассматривать. Она была бы настоящим совершенством, если бы природа, исчерпав все краски, не наградила её круглыми, кошачьими, водянисто- зеленоватого цвета глазами и чуть широким тонкогубым ртом, обнажающим при улыбке хищные мелкие зубы. Её фигура была так совершенна, линии настолько выпукло чётки и гармоничны, я почти не сомневался, что она носит корсет.
Насколько её фигура не могла не восхищать, настолько её лицо казалось мне непривлекательным. Эта дисгармония заставляла меня разглядывать её с каким-то смешанным чувством восхищения, удивления и разочарования. Хотел бы я знать, как это чувство выражалось на моём лице, но, очевидно, выражалось так, что не могло не бросаться в глаза. Помимо своей воли я разглядывал её упорно, забывая, что это неприлично и что такое разглядывание может быть ей неприятным. Я не замечал за собой того, что мог бы заметить и слепой, а тем более женщина, которую так рассматривают.
Хотя мне было уже двадцать лет, я ещё был целомудренным юношей и не знал, что женщина, даже потупившая глаза, видит сквозь закрытые веки, если это ей необходимо, не хуже, чем с открытыми глазами. По некоторым признакам, мне стало понятно, что ей известно то, как я её осматриваю, хотя она не обращала на меня никакого внимания и не смотрела в мою сторону. Её спутники часто поглядывали на меня с ехидными усмешками. Ясно, она обратила внимание на моё поведение. Я это хорошо понимал, но так как, кроме её внешности, ничто больше меня в ней не интересовало, у меня не возникало желания ни с ней познакомиться, ни навести о ней справки, я не обращал на их усмешки внимания.
Разглядывать я её продолжал с прежним упорством. Во мне как будто проснулся художник. В своём воображении я переделывал её лицо, делая его чуть удлинённым, её причёску преображал в классическую, награждал большими тёмно-синими блестящими и удлинёнными глазами, наделял её красивой формы ртом, с идеально очерченной верхней губой и немного утолщённой нижней. Тогда перед моим мысленным взором предстала настоящая, ожившая небожительница, накинувшая на себя современное платье.
По какому-то совпадению, два-три раза в неделю, в определённый час, наши пути скрещивались в глухом переулке, образуемом двумя длинными высокими заборами, за которыми были сады. Появлялись мы с противоположных концов и сразу замечали друг друга. Приближаясь, она опускала лицо вниз, я же устремлял на неё, как обычно, свой упорный взгляд. При встрече на узком деревянном тротуаре, слегка повернувшись боком и лицами в противоположные стороны, мы молча расходились. Иногда в эти моменты я успевал заметить на её лице едва уловимую ухмылку. Такие встречи продолжались несколько недель.
Однажды, когда мы должны были при встрече, как обычно, вполоборота разойтись, она подняла лицо, взглянула мне в глаза и приветливо улыбнулась. Это было столь неожиданным, что я мгновенно вспыхнул огнём, споткнулся, чуть не полетел с тротуара в канаву и только огромным усилием воли удержал себя от того, чтобы не броситься бежать. Всё это произошло в единый миг. Мы прошли как обычно, но я почувствовал себя невыносимо скверно. «Хватит, – решил я, – пора прекратить эту неумную игру, никто не обязывает меня ходить именно этим переулком». Я не представлял, как я могу теперь с ней встретиться, после этой улыбки и того, как я на неё среагировал. Я изменил свой маршрут. В университете я тоже стал избегать тех мест, в которых встреча с ней могла бы оказаться возможной. Вскоре всю эту историю я выбросил из головы.
Жил я тогда в комнате совместно с двумя студентами, в которую переехал сравнительно недавно. О причине переезда стоит сказать несколько слов. До переезда мы с моим однокашником по Троицкой гимназии Яшкой Чекрызовым снимали небольшую уютную комнату у домовладельца, сдававшего в своём доме три-четыре комнаты студентам. Хозяева были бездетными, он пожилой, огромного роста, коренастый, свирепого вида. Хозяйка была полной его противоположностью: небольшого роста, хрупкая, добродушная и приветливая. Они держали корову и несколько коз. Вход в дом был со двора. Калитка находилась всегда на цепи, приоткрывалась на полметра, и для того, чтобы пройти, нужно было сгибаться в три погибели под цепь. Спать хозяева ложились аккуратно в десять часов вечера и запирали калитку на засов от ворот. Когда мы приходили позже, для того чтобы попасть домой, приходилось стучать в окна комнаты хозяев, выходившие на улицу. Было очень неудобно беспокоить спящих людей, а возвращаться домой до десяти часов нас тоже не устраивало, это значило бы отказаться от танцевальных вечеров, студенческих вечеринок и других развлечений. На наше несчастье, остальные студенты и курсистки были зубрилами и возвращались домой всегда вовремя. Мы с Яшкой оказывались вроде как на особом положении. Когда мы возвращались поздно, большей частью нам открывал калитку хозяин. Делал он это молча, но с таким свирепым видом, что нас буквально продирал мороз по коже и все слова, приготовленные для оправдания, замирали у нас на губах. Вид у хозяина, когда он открывал нам калитку, действительно был чудовищный. Без того высокий, с надвинутой на брови высоченной папахой, накинутым на плечи необъятным тулупом, ногами в широченных полосатых подштанниках, заправленных в колоссальные валенки, он превращался в наших глазах в разбойника-великана: вот-вот огреет тебя своей огромной лапищей. Перед таким немыслимым верзилой нужно было согнуться чуть не пополам, чтобы пролезть в калитку под цепью. Приходили мы в себя от пережитого ужаса, только очутившись в комнате, и то не сразу. Когда нам открывала хозяйка, мы сразу вздыхали с облегчением, потому что на все наши оправдания и извинения она неизменно с добродушной улыбкой отвечала: «Не беспокойтесь, милые! Нешто я не понимаю. Сама была молодая».
Всё же хозяин нагонял на нас такой ужас, и мы себя чувствовали настолько унизительно, пролезая под уничтожающим взглядом хозяина в злополучную калитку, что мы даже пробовали отказываться от всяких развлечений, чтобы этого не испытывать. Но молодость брала своё, проходило некоторое время, и мы возвращались к старому. Необходимость возвращения домой отравляла нам и танцевальные вечера, и студенческие вечеринки. Смутная тень нашего хозяина, свирепо открывающего нам калитку, маячила в нашем сознании даже в самые восторженные минуты.
Дело начало доходить до анекдотов. Когда мы возвращались поздно, мы всю дорогу молили Бога или провидение, чтобы нам открыла хозяйка. Подойдя к дому, несмотря на мороз, мы долго торговались, кому постучать в окно. Наш страх был так велик, что мы забывали, что в замороженное окно не видно, кто стучит. Наконец кто-нибудь из нас решался постучать, и тогда начиналась новая торговля, кому первому пролезать в калитку. Каждому хотелось миновать калитку первым, чтобы не чувствовать за спиной возвращающегося хозяина.
– Никогда не представляла, что студентам приходится так мучиться! – засмеялась Лиза.