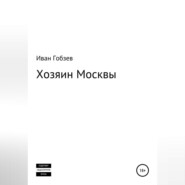По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Те, кого любят боги, умирают молодыми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я побрёл к Наташиному дому. Моросил мелкий прохладный дождь, земляные дороги расплылись лужами и грязью, сырая трава примялась и дрожала. В окружившей меня серости чувствовалась вечность, с её безысходностью, пустотой и уютом.
Перед домом Наташи располагалась зелёная поляна, вдоль заборов густо заросшая боярышником. Над двумя лужами стояли пустые железные качели с протёртыми сиденьями. В конце поляны возвышался красивый могучий дуб с развесистой кроной. Я остановился у забора и вгляделся в окна дома, где жила Наташа, но они были темны. Мне стало страшно – не уехала ли она, таким брошенным и пустым казался сегодня дом. Оставалось только ждать, и я от нечего делать залез на дуб и удобно устроился на одном из его сучьев, привалившись к стволу. С такой высоты были видны все соседние участки, а я казался себе надёжно укрытым в листве. Меня охватило тревожное возбуждение: я мог видеть всё, а сам был недоступен чужим взглядам. И тогда я расстегнул ширинку и занялся онанизмом.
Ещё будучи в процессе, я вдруг увидел Наташу – она шла по дороге, медленно приближаясь к поляне, а рядом с ней был мой брат. Они о чём-то болтали и смеялись, я же наяривал, ощущая жгучую обиду, только подхлестнувшую моё возбуждение. Вскоре они вышли в центр поляны и остановились неподалёку от дуба, а вокруг меня судорожно тряслись листочки. Они повернулись друг к другу и замолчали, стоя так близко… И тут Никита посмотрел в мою сторону, указал на меня рукой и сказал бесстрастно:
– Вон посмотри, что твой Мирослав вытворяет. Нашёл место.
Наташа в недоумении уставилась на дуб, мы с ней встретились взглядами, и я помахал им рукой, приветствуя. Сидя там, наверху, я не хотел больше жить, и даже злости на брата у меня было.
Наташа ушла к себе, Никита ждал меня под деревом. Я спустился вниз, так некстати раздираемый чувством ревности.
– Вот это поступок, – сказал брат с восхищением. – Ты показал ей, на что способен!
Я неуверенно заглянул ему в лицо и понял, что он не шутит. Но пришло время для серьёзного разговора.
– Слушай, – начал я. – Ты мой брат и всё такое, конечно, пятое-десятое и седьмое-восьмое, и надо не надо – танцуй, моя красавица, но всё-таки…
– Тщета и суета, – возразил он, скривив губы, – мелочи, которые не стоят внимания.
– Но я её люблю, – признался я.
– И люби. Любовь – это прекрасно, и она, я надеюсь, спасёт мир. Вот Маша тоже любит меня, и я хочу её любить. Но не умею.
– Как так?
Никита погрустнел и пробормотал:
– Я никого не люблю, любят меня. Так что тебе я завидую чёрной завистью, твой дар ценнее всего на свете. Поверь.
Глядя в Никитины глаза, я не смел усомниться в его искренности.
Теперь, спустя долгое время, я начинаю смутно догадываться о причине того своего поступка. Его корни уходят в моё детство, когда Матушка ещё пыталась приобщить меня к церкви и одарить благодатью веры. Она считала, что я грешный ребёнок, и целыми днями разучивала со мной псалмы, пела гимны, читала молитвы, словом, искала альтернативу моим порочным увлечениям. Как-то раз она повела меня в храм Божий на исповедь.
– Мирослав, – сказала она, – грешник чёртов, ты сколько времени не исповедовался? А тебе уже двенадцать лет.
Я стеснялся рассказывать какому-то чужому человеку, пускай и священнику, о своих проступках, но Матушка убедила меня, что я очень грешен, а мне совсем не хотелось гореть в аду, если вдруг умру случайно без отпущения грехов.
И вот она привела меня в церковь, под древние своды в дивных фресках, в ароматы смоляных благовоний и таинственный полумрак. На стенах и столбах висели портреты святых с грозными лицами, тихо горели свечи, верующие с печатью благодати на лицах молились, крестясь, а иногда падали на колени. Падали, но поднимались. К огромному бородатому священнику, творившему таинство исповеди, выстроилась большая очередь. И пока я стоял в очереди, Матушка бегала по храму и, похоже, облобызала все иконы, которые успела. Были в том храме и чьи-то мощи, но, чтобы облобызать и их, пришлось бы выстоять многочасовую очередь, длинным змеем выходящую за пределы церкви. Я вспоминал, как год назад Матушка возила меня к одним мощам. Мы приехали рано, и нам пришлось ждать, когда откроют к ним доступ. А у дверей собралась толпа старушек. И вот только двери открыли, старушки рванули лобызать мощи и едва не задавили меня своими костлявыми телами насмерть.
Наконец подошла моя очередь исповедоваться, и посредник между Богом и людьми спросил меня:
– Ну, сын мой, в чём грешен?
Я тихонько так ответил, чтобы не услышали остальные:
– Онанизмом занимаюсь, батюшка.
– Что делаешь? – повысил батюшка голос, не расслышав.
Я покраснел и сказал чуть громче:
– Онанизмом занимаюсь.
– Что-что, сын мой?
– Дрочу я, батюшка!!! Дрочу!!! – приподнявшись на цыпочки, крикнул я ему в ухо.
Старушки в очереди встрепенулись, как птицы, и посмотрели на меня с осуждением. Батюшка, конечно, отпустил мне грехи, но с тех пор у меня не хватало мужества вновь пойти на исповедь, и свой стыд я побороть так и не сумел.
После случая с деревом я совсем потерял покой. Меня терзал и мой позор, и ревность. Обвинять Наташу, помня о своём подвиге на дубе, мне было сложно. Я не находил, как оправдаться перед собой, гораздо легче мне удавалось оправдать Наташу. Но вскоре произошёл случай, который полностью меня уничтожил.
Однажды мы с братом от нечего делать смастерили себе ходули в три человеческих роста с выступами для ног. Чтобы залезть на эти ходули, нужно было сначала забраться на стол. Мы долго тренировались, наверно, недели две, прежде чем научились перемещаться с их помощью по посёлку. Основная проблема заключалась в том, что ходули получились слишком тяжёлые, и руки быстро уставали их передвигать. Непросто было и сохранять равновесие.
В конце концов наше упорство победило, и мы стали свободно бродить по дорогам, возвышаясь над заборами и наблюдая всё, что происходило в чужих садах. Полуголые дачники ругались, видя наши любопытные лица, и скрывались в домах. Так мы проходили целый месяц и выучили много удивительных трюков. Например, мы могли на ходулях прислониться к чужому забору и пописать на чьи-нибудь чудесные нарциссы или редкие сорта роз.
Как и всё в этом мире, кроме, наверно, любви, ходули скоро нам надоели, и мы оставили их вблизи сарая, рядом с другим хламом, который валялся там, брошенный и одинокий, как печальное напоминание о суетности и ненадёжности наших дел.
После случая с дубом я заскучал и не знал, чем себя занять. Когда я бродил по саду в тоске, мой унылый взор случайно упал на ходули, и я подумал: а не тряхнуть ли стариной? Я вынес ходули на дорогу, довольно ловко вскочил на них и, к удивлению своему, легко зашагал. Навык не был утерян, и сады вокруг открывались моему взгляду.
Охваченный странным азартом, я забрёл далеко, куда прежде ещё не заходил – на тенистую дорогу в дремучих кустах боярышника, вдоль глухих темно-зелёных заборов, за которыми росли черные сосны и ели. Дорога здесь была земляная, вся в выбоинах. Глубокие ямы, залитые мутной водой, как зеркала, отражали кроны деревьев. Вечный полумрак, пустота и одиночество этой улицы наполняли меня ощущением покоя и в то же время мистического страха.
И вот я шёл по этой улице, стремясь не упасть в огромные глубокие лужи. Приблизившись к старому, совсем чёрному забору, я решил прислониться – передохнуть. Привалив ходули к верху забора, я оказался в пахучих зарослях сирени цвета тёмного вина. Едва я расслабился, как моё внимание привлекло какое-то движение посреди сада между клумбами и цветниками.
Там, на деревянном лежаке, прикрытом смятым покрывалом, лежал толстый лысоватый мужчина в очках, а над ним склонилась девушка и делала ему что-то очень приятное, судя по его умиротворённому виду. Он показался мне очень знакомым, как будто я встречал его где-то совсем недавно. Девушку я видел сзади, она была обнажённая, и её длинная коса спадала с плеча на его лохматый живот. Я отодвинул мешавшую ветку сирени, чтобы лучше видеть. С чувством зависти и нарастающей тревоги я ждал, что она повернётся хотя бы в профиль и я смогу увидеть её лицо. Коса и телосложение были у неё совсем как у Наташи, и невыносимая ревность заполнила моё сердце так, что заболела грудь. Наверно, я слишком нависал над забором, потому что мужчина вдруг заметил меня.
– Эй! – крикнул он, подняв смутно знакомое лицо. – Стой!
Его окрик так напугал меня, что я упал вместе с ходулями в канаву. Я вскочил и побежал прочь, оставив ходули. На бегу думал сразу о нескольких вещах: о том, была ли это Наташа и почему я не выяснил этого, зачем я сбежал, то есть повёл себя как трус, и о том, почему мужчина крикнул: “Стой!”.
Дома я сел за стол и склонил угрюмую голову над чашкой холодного чая. Ревность, боль и стыд растаскивали мою душу по всей Вселенной, я вдруг начал подозревать себя полным ничтожеством. И самое обидное, что того мужика я мог бы удавить одной рукой.
Запретный плод
Моим мучениям не было конца, я не находил себе места несколько дней, пока нас не навестили Игорь с Машей. Они вошли в наш дом так, словно были счастливой семейной парой.
– Как вы, парни? – спросил Игорь и сразу перешёл к делу. – Маша предлагает попить у нас немного пивка.
– Хватит, – наотрез отказался я. – Хватит уже пить. Я больше не могу.
– Брось. По бутылочке. А в Болшево продаётся чудесное разливное.
Пока я думал над этим предложением, приклеившись локтями к липкому столу, Никита многозначительно поглядывал на Машу, удивлённый выражением семейной идиллии на их с Игорем лицах.
– Ладно, – сказал я наконец, – но по бутылочке. Деньги, конечно, мои?
– Ну а чьи же ещё?
Никита вышел с ними на улицу, и я видел, как Игорь шепнул ему на ухо пару слов. Я выкатил на дорогу велосипед, Никита вскочил сзади на багажник с пятидесятилитровой канистрой в руках.