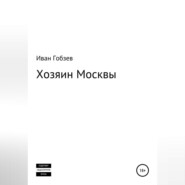По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Те, кого любят боги, умирают молодыми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Происходит умышленная дебилизация масс, – вздохнула Маша.
– А мы ничего не можем поделать, – добавил я.
– Почему же, – сказал Игорь, – можем, но на невидимом фронте. Символический обмен.
– И смерть, – добавил Никита.
Игорь выкатил из сарая старый ржавый велосипед и положил в сумку диск Эннио Морриконе. Он был его любимым композитором. Время от времени он брал этот диск, ехал в магазин и там менял его на бутылку водки. А потом покупал новый.
Игорь уехал. Маша с грустью смотрела Никите в глаза, а я достал хомус, который привёз как-то с Алтая, и зазвучала песнь степей. Заунывные потусторонние звуки разносились над посёлком, и все духи, до сих пор бродившие по земле, подверглись заклятию. Я играл и играл, выкладываясь по полной, и лицо мое уже покраснело от непривычного напряжения, и сопли готовы были вырваться из вечно заложенного носа.
– Ох, Мирослав, прекрати, – попросила наконец Маша, – и так от тоски повеситься хочется.
Сочетание слов “прекрати” и “повеситься” вызвали во мне сильную тревогу и ощущение, как будто я забыл нечто важное. Почему-то вспомнился аммиачный аромат плотины.
Я издал несколько заключительных звуков и убрал хомус. Едва я это сделал, как вернулся Игорь, причём вместе с Наташей. Он был очень весел, Наташа нарочито кокетничала с ним, а со мной даже не поздоровалась. Мне стало ясно, что я по-прежнему виноват перед ней, и меня охватила такая злоба, что захотелось стукнуть её по голове поленом.
Едва Наташа присоединилась к нам, как поспешила поделиться волнующей новостью:
– Сегодня вечером меня пригласили на концерт Исмаилуя!
– Хм, – веско сказал Никита, – тебе повезло.
– Да, – согласился Игорь, – это как минимум.
– А меня никто не пригласил на концерт Исмаилуя, – улыбнулась ей Маша.
– Ничего, – сказал я Маше, – я приглашу тебя на концерт “Сисястых”, и это будет не хуже.
Наташа фыркнула.
Игорь купил в этот раз пару бутылок кагора “Троя” и бутылку водки “Симфония № 9”.
– Сегодня я угощу вас отменным глинтвейном, – криво ухмыльнулся он.– Ну-ка, Пиши-читай, принеси мне конопли, что выращивает твоя преподобная мать в лечебных целях.
Я не стал мелочиться и сорвал несколько отборных кустов. Пока Игорь тёр цедру и делал ещё какие-то непонятные приготовления, мы с Никитой сушили на противне над костром траву, а уже высушенную перетирали в ладонях, отчего руки наши скоро стали буро-зелёными. Сладкий пряный аромат конопли разносился повсюду, умиротворяя птиц, насекомых и других тварей. Через час работы на противне возвышалась большая горка травы. Игорь взял и высыпал всё это в дымящийся таз с глинтвейном, а затем принялся помешивать веткой сирени.
– Поверьте, напиток будет ого-го.
Я и не сомневался, что напиток будет именно такой, как и всё, побывавшее в руках Игоря.
Когда глинтвейн – полный таз амброзии с терпким букетом – был готов, мы вынесли его на стол под берёзой, расставили стаканы и уселись на скамьи.
Наташа в этот раз сразу согласилась выпить с нами, хотя и осудила наше пристрастие к неправильным ингредиентам.
– Ну, вы как всегда, – хмуро сказала она. – Нет чтобы в боулинг сходить или на концерт, в кино.
– В том-то и дело, – ответил Игорь. – Сейчас такие концерты и боулинг, что приходится разбираться самим. Не говоря уже о кино.
Вино полилось рекой. Горячие стаканы терпкого ароматного напитка приятно грели руки, но опустошались с трудом. Маша зажгла свечи, и вокруг стали видны прозрачные уютные сумерки в синеватых зарослях цветов. По непонятным для меня соображениям – да я и не хотел их понимать – Наташа взяла меня под столом за руку и прошептала в ухо: “Сочный вечер, Мирослав”. Её расположение наполнило меня сладкой истомой, грустью и нежностью. Я поглядел на неё и понял, что мы никогда не будем вместе. По многим причинам. Ну хотя бы потому, что мать не позволила бы мне жениться на ней. Во-вторых, Наташа была идиоткой. Правда, на это я ещё мог бы закрыть глаза и одурманиться чарами любви.
Мне захотелось сделать что-нибудь прекрасное, но я не знал что, ведь никогда ещё ничего такого не делал и способен к этому не был. Я вспомнил слова Никиты о том, что прекрасны бывают поступки и слова, первые реальны, а вторые нет, но зато более эффективны. В моем случае, в данной ситуации, о поступках не могло быть и речи – что я мог сделать? Я бы, конечно, обрушил на Наташу звёздный дождь, окутал бы туманом и в объятиях ветра перенёс бы куда-нибудь в райское место, где подарил бы луну, а на своём лбу сделал бы татуировку: “Наташа”…
– Однажды ради своей жены я сбрил брови, – вдруг сказал Игорь.
– Я этого не оценила, – вздохнула Маша.
Я понял, что рассуждал слух. Наташа поднялась и пересела на другую скамейку:
– Ты бы себе татуировку из трёх букв на лбу сделал, Мирослав.
Я потёр свой смуглый лоб, на миг представив эту картину. Некоторое время все молчали, только Никита с Машей перебросились парой многозначительных слов.
Наконец Игорь сказал тост в мою честь, и мы выпили снова, и мне даже обожгло горло. Вскоре пришли лёгкость и хорошее настроение, я взял было хомус, чтобы развлечь друзей, но Игорь велел положить его на место.
Тогда, выпив за беседой, смысл которой уловить мне не удалось, ещё пару стаканов, я запел. Никита сразу подхватил мою песню, а Маша загрустила, глядя в угол между окнами веранды и дверью. В этом углу стоял веник, валялись какая-то поломанная детская игрушка и старая потёртая кожаная сумка с разным хламом типа ниток, иголок, тряпочек и всего такого. В общей атмосфере пасмурной сырости или сырой пасмурности, сдобренной таинственной хмуростью сумерек, эти трогательные гаджеты казались исполненными мистического содержания, и взгляд Маши представлялся мне взором в вечность. Я загрустил, так загрустил, что песня моя полилась сама собой, и слезы навернулись на глаза у всех, кроме, конечно, Игоря. Тот с мрачной полуулыбкой отпивал свой глинтвейн и смотрел непонятно куда, потому что за белыми отблесками очков направление его взгляда установить было невозможно. Я уронил на пол телефон, полез под стол и увидел там то, что и ожидал увидеть: рука брата лежала у Маши на бедре и слегка подрагивала, шевелилась, как усталый сонный паучок. Зрелище не показалось мне пошлым, наоборот, я отметил в этом что-то прекрасное и отчего-то средневековое, когда какой-нибудь поэтичный Франсуа Вийон блядовал в кабаке, бесстыдно приставая к девушке и напевая ей в ухо всякую ересь. Вот где, как ни странно, подумал я, кроется подлинная живая красота, без пафоса и омертвения.
В общем, было очевидно, что если бы не Игорь, то Никита немедленно полюбил бы Машу прямо здесь. Маше тоже было это очевидно. Было это очевидно и Игорю, который улыбался всё более дьявольским образом. Допивая пятый стакан, я понял, что тоже не против сделать что-нибудь такое с Наташей. Она заметно опьянела и покачивалась на стуле, слово в такт еле слышно шумящему в кронах берёз ветру.
И начался дождь. Он хлынул без всякого предупреждения – просто вдруг грянул гром, тяжело пройдя по крыше, за окнами почернело, и мощный ливень накрыл сад. Молнии усмешками разрывали небеса, а очки Игоря сверкали всё страшнее, предвещая что-то нехорошее.
Не было сомнений, что я пьян.
– Пора спать! – вдруг сказал Игорь и поднялся, не говоря более ни слова.
Я покачал головой с каким-то смутным сомнением, мы с братом безропотно встали и побрели домой под косым водопадом ливня, сквозь дрожащие мокрые заросли. На миг мне пришло в голову, что Наташу следует проводить, но ведь следовало проводить и брата – и, подумав немножко, я выбрал последний вариант. Было скользко, мы падали в темноте, не видя друг друга, кричали и пели, но всё растворялось в шуме дождя, и мы сами тоже.
Дома я повалился на койку в непонятном блаженстве, а Никита сел за стол у свечи и закурил, печально глядя в окно. Я вдруг заметил, как блестят его глаза, и мне захотелось сказать ему что-то важное – но что я мог сказать, если вообще нет ничего такого, что имело бы значение.
– Брат, – улыбнулся я, – ложись спать!
Он ответил что-то матерное, кажется, послал меня, и слеза скатилась по его щеке, как маленький бриллиант, и такая грусть прозвучала в этом ответе, что я сам едва не зарыдал, уткнувшись длинным носом в подушку.
Я стал тихо засыпать, чувствуя невыразимую скорбь и странную приятную безысходность. Мне было жаль, что нельзя разделить чужую боль.
Я почти уже погрузился в сон, предварённый чудными видениями, как вдруг с особенной силой грянул гром – казалось, прямо по дому. Но это был не гром – кто-то стучал по нашим окнам, выбивая стекла, и кричал, перекрывая шум ливня. Я сел на кровати и в полутьме при вспышке молнии различил по-прежнему сидящего за столом грустного Никиту и мокрого Игоря за разбитыми стёклами.
– Никита! – кричал он. – Вот она!
Никита вышел из дома, а я подобрался к окну, чтобы лучше видеть, что за трагедия там разыгрывается.
В саду, в черных зарослях, стоял Игорь и держал за руку замученную, поникшую Машу, они были насквозь мокрые, в прилипшей к телу одежде. Игорь с размаху швырнул жену в моего брата:
– Забирай её себе, она твоя! – сказал он и пошёл к себе, ломая сирень и забор, утопая сапогами в грязи размытых тропинок.
Маша не решалась сразу встать из травы – или просто не могла – и полулежала там, как на диване во время просмотра телевизора, пока мой брат не подал ей руку.
Они ушли в глубину сада и молча уселись за стол на сырую скамью под берёзой. Я не мог слышать, о чём они говорят, но видел, как Никита что-то сказал Маше и как поник от её ответа. Потом он встал, сорвал длинную розу цвета ночи и принёс её Маше. Он никогда ещё никому не дарил цветы, и я серьёзно встревожился.