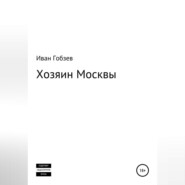По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Те, кого любят боги, умирают молодыми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне снилось, что я нахожусь в огромном, захламлённом, запущенном доме и на мне надеты только розовые трусы. С моей девушкой мы договорились, что я должен найти в этом доме какую-то вещь, но неясно какую. В поисках я забрёл на второй этаж, обнаружил в одной из комнат старый комод и начал рыться в нем. На комоде стояли чёрный слон и сломанные часы, в ящике валялась куча бумаг и карточек, как в библиотеке, и толстая стопка денег. Присмотревшись, я понял, что деньги эти ненастоящие. Я оставил комод и продолжил поиски в других помещениях. В какой-то момент, не найдя больше ничего, я оказался на улице и встретил девушку и её мать; было заметно, что девушка беременна. Она казалась печальной, мать глядела на меня неодобрительно и с недоверием и вдруг сказала: “Почему он без одежды и в розовых трусах? Он похож на идиота”. Девушка не нашла что ответить и по-прежнему печально смотрела куда-то в сторону. Сгорая от стыда, я стал говорить что-то насчёт того, что пойду ещё поищу, и ушёл, а розовые трусы прожигали мне сердце. Проснувшись, я подумал, что в пустом доме с ненужным хламом я искал самого себя, но сам и был этим домом.
Я рассказал Игорю сон и поделился своими переживаниями о смысле жизни. Подумав, он предложил погадать на книге, которую сам написал от имени Никиты. Я загадал страницу, назвал номер строки, и Игорь прочитал: “…иногда говорят, что вся пьянка только и затевается ради второго дня”.
– А что там дальше написано? – спросил я, недовольный результатами.
– “…Точно так же и любовь затевается ради боли, которую благодаря ей придётся пережить. И все наши начинания обязательно должны завершиться трагедией, потому что именно в миг боли и глубоких душевных переживаний мы живём, чувствуем красоту мира. Этот миг – единственно настоящий. Вот так и проект “одного дня”, при видимой своей бесконечности, ставит себе конечной целью трагедию, ибо только в ней заложен смысл, оправдание жизни”,– и от себя Игорь добавил: – Вот так, Мирослав. В противном случае ты всю жизнь будешь бродить в розовых трусах в поисках самого себя в самом себе.
Я глубоко вздохнул:
– Что ж, ты сполна мне ответил.
В этот момент я вдруг ощутил, что конец уже близок и что так и должно быть, весь смысл именно в нем и заложен.
– Смотри-ка, – вдруг сказал Игорь, кивая в сторону дороги, уходящей в поле.
Прикрыв глаза от солнца, я вгляделся туда, где когда-то колосья пшеницы были выше наших детских голов, а теперь остались трава да одуванчики, не достающие даже до колена. К нам медленно приближался грузовик в окружении каких-то людей, идущих рядом с машиной.
Подъехав к перекрёстку, грузовик остановился. Остановились и сопровождающие его гиганты в чёрной форме, вооружённые автоматами. Хотя их лиц не было видно, я легко представил, какие они могут быть у таких людей. Бесстрастные атланты. В кузове грузовика возвышалось что-то большое и квадратное, закрытое темно-серой тряпкой.
Дверь кабины отворилась, оттуда выскочил невысокий полный человек и в сопровождении одного бойца быстро направился к нам. Я сразу узнал его – это был Яков Семёнович Гадес. Он подошёл к столу и внимательно, но без всякого выражения нас оглядел.
– Ну, здравствуй, сын мой, – сказал он Игорю. По его жесту боец ловко ударил Игоря прикладом автомата в лицо. Игорь упал вместе со стулом, не издав ни звука, его подхватили за руки и куда-то потащили. Я хотел было подняться, но Гадес резко сказал:
– Сидеть!
И я почему-то послушался его, вдруг ощутив странное, неприятное превосходство этого человека.
Открылась дверь с другой стороны машины, и я увидел Матушку, почти полностью скрытую длинным черным монашеским одеянием: в нем был только круглый вырез для лица. Я в недоумении смотрел на неё.
– Мама?
– Мирослав, это нужно было прекратить, – горько сказала она, глядя на меня с демонической материнской суровостью и любовью.
По команде Гадеса бойцы сдёрнули серую тряпку с кузова грузовика. В квадратной металлической клетке был мой брат, грязный, оборванный и страшно худой. Никита сидел, привалившись к прутьям, и бездумно смотрел в ледяное небо, никак не реагируя на происходящее.
– Снимайте! – велел Гадес и отшвырнул стол, за которым я сидел, в сторону. – Встань и отойти вон туда, – добавил он мне.
Я послушно ушёл, куда мне сказали.
Шестеро бойцов подняли клетку и перенесли её на место стола. Клетка была чуть ниже моего роста, из тонких стальных прутьев, часто переплетённых между собой.
На просеке я заметил Машу. Она подбежала ко мне и схватила за руку. На её лице было такое дикое выражение, что я невольно обнял её и прижал к себе.
– Я почувствовала, – прошептала она, – я почувствовала, что он вернулся.
Она хотела подойти к клетке, но побоялась, да и я бы её не пустил. Я прижал её к себе крепче, и мне показалась, что она совсем холодная и сердце её не стучит. Матушка тяжело посмотрела на меня своими седыми глазами и сказала:
– Мирослав, не трогай эту шлюху.
Гадес сделал знак одному из своих людей, тот подошёл к нам, схватил Машу за волосы и швырнул на дорогу. Она вскрикнула, попыталась сесть, её ударили и потащили в том же направлении, что и Игоря.
– Она была плохой женой моему сыну, – обратился Гадес к Матушке.
Та молча кивнула.
В оцепенении я почему-то думал о том, что по одной из четырёх дорог привезли Никиту, по другой пришла Маша, а чего ждать с двух других? Оглядевшись, я увидел Наташу, спокойно идущую к нам по третьей дороге. Оставалась последняя, четвертая, уходящая в никуда, в сосновые чащи, к далёкому шуму поездов и забытой жизни. Может быть, оттуда придёт спасение, может, хоть на этой дороге я увижу какой-нибудь добрый знак?
Наташа тронула меня за плечо.
– Привет, – просто и с улыбкой сказала она. – Ну, ты наконец понял?
Она подошла к Гадесу и прислонилась к нему. Он вдруг рассмеялся и обеими руками схватил её бедра, сжал их в толстых пальцах и потрепал. Наташа хихикнула и чмокнула его в щеку.
– Вот, Мирослав, – сказал он, – хорошая девушка, могла бы быть твоей женой! Ну, ещё не всё потеряно, мы с тобой поговорим на эту тему.
– У меня есть уже хорошая девушка, – возразил я.
– А, – он усмехнулся, – у тебя её больше нет.
Матушка перекрестилась.
Я бросился в дом. Пробежав просеку и сад, я влетел на крыльцо, пронёсся сквозь двери и ворвался в комнату, где мы жили с Эвридикой. Там было пусто, только смятая постель, опрокинутый стул и её одежда на полу. Я подумал, что не могли же они увести её голой, и принялся обыскивать дом, потом сад, потом стал громко звать Эвридику. Не найдя её, бегом вернулся на перекрёсток.
– Где она? – спросил я Гадеса, задыхаясь.
– Ты никогда этого не узнаешь, – спокойно ответил он.
Я с криком прыгнул на него, намереваясь задушить. В то же мгновение меня ударили по голове, в глазах потемнело, подкатила тошнота, я уткнулся лицом в землю, попытался встать, увидел ярко-зелёный взгляд Никиты, меня снова ударили, и я потерял сознание.
Долгая болезнь
Когда я очнулся, то обнаружил себя в своей постели, рядом сидела серая Матушка с книгой каких-то песнопений, и поток осеннего света падал на неё из окна, размывая очертания её силуэта. Матушкины одежды серебрились и сливались со светом, и она казалась пришельцем с небес. Надо мной горела лампада, напротив висел коричневый лик святого. Святой строго смотрел на меня, а я видел его, разделённого пополам моим носом. Я попытался что-то вымолвить, но лишь захрипел. Матушка поправила подушку и промокнула платком мой рот, наверно, я истекал слюной. На её зов вбежала Наташа со шприцом, она развернула мою руку, похлопала по коже и ввела иглу.
– Мирославчик, – тихо сказала она, – ты был так болен. Но скоро поправишься, обещаю.
Я почувствовал, что проваливаюсь в сон. Мне что-то кололи, и я даже не знал, как давно лежу здесь в таком состоянии. Воспоминания смешались в моей голове, вымышленные и настоящие, и я не был в состоянии различить их. “Ведь я врал и сочинял больше, чем происходило в реальности, как же теперь с этим разобраться”, – затревожился я.
Вдруг Матушка отложила книгу, аккуратно заложив её полоской бумаги из Книги Перемен, и запела. Она запела тонким и высоким голосом какой-то подходящий к моему случаю псалом, и меня ужасно замутило, я подумал, что нахожусь в аду.
Во сне, скорее похожем на бред, я видел себя лежащим на той же постели в той же комнате, только как будто глазами святого, висящего на стене. Ко мне приблизились и встали у кровати две черные тени, скорбно согбенные.
– Мы просили, мы говорили тебе – прекрати. Каких бед ты натворил.
Во сне я узнал этих призраков. Один – покончившая с собой мать Игоря, второй – Маша.
Я закричал и проснулся от своего крика. Оказалось, что заунывным тяжёлым голосом я зову Эвридику.
Всё так же в окно лился серый свет, в саду шёл нескончаемый дождь, и Матушка читала книгу песнопений выцветшими глазами. Вбежала Наташа с миской, присела на краешек кровати и принялась кормить меня с ложечки какой-то гадостью без вкуса и запаха. Я беспомощно проглатывал кашицу, и меня безостановочно мутило. Я думал, что никогда с перепоя мне не было настолько плохо, как вот сейчас, и нет ничего страшнее, когда так мутит и кажется, будто душа хочет вылезти через горло, потому что внутри душно, тесно и темно. Потом Наташа приготовила шприц, и я с нетерпением ждал, когда же она меня уколет, чтобы прошла наконец это невыносимая тошнота. Она улыбнулась мне и потрепала за нос: