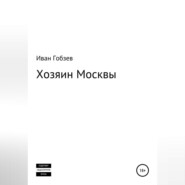По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Те, кого любят боги, умирают молодыми
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мирославчик, ну, рука у тебя как у наркоманчика, – и ввела иглу, и я снова куда-то полетел, в какую-то пропасть, где в глубине шумел на песке прибой, смывая следы Эвридики, и мне нужно было успеть, пока они ещё видны.
Ещё много раз чередовались видения и явь, когда я просыпался в серой комнате, меня кормили, кололи, Матушка пела псалмы, Наташа целовала меня в лоб, отчего я казался себе покойником в гробу, а во сне я видел какую-то девушку, имя которой уже не мог вспомнить. За окном рыдала вечная осень и умирали деревья, и святой не менял своего строгого выражения, и в бреду я гадал, как бы подольститься к нему, чтобы он не был со мной так суров. А иногда мне виделось, будто полный лысоватый мужчина, вроде знакомый, склонившись надо мной, что-то говорит. Я не был уверен, что это не тот же святой со стены.
Однажды я проснулся без обычной тошноты. Я был очень слаб и еле сел на кровати. Мне хотелось собраться с мыслями и понять, что к чему, что вообще происходит: какая-то смутная тревога шевелилась в моей груди. Но я не мог ничего вспомнить. Не было даже никаких обрывков воспоминаний – полная пустота в голове.
Посидев ещё некоторое время, я понял, что здесь не хватает Матушки, выхаживавшей меня во время моей тяжёлой и долгой болезни, и моей чудесной невесты – Наташи, красавицы с длинной косой и ласковыми руками. Я посмотрел на святого и с чувством перекрестился.
Я встал и медленно, как старик, цепляясь за встречные предметы, прошёл в другую комнату. Там висело зеркало, и я не удержался, чтобы не посмотреть в него. Больше всего меня поразила не бледность, не исхудалость и не впалые глаза – я и так никогда не считался красавцем, – а то, что я был лысый. Куда пропали мои черные как смоль волосы, густая завеса цвета ночи?.. Наверно, теперь я был похож на смертельно раненного Носферату.
Я вышел на веранду. Было что-то непривычное в расположении вещей, безупречной чистоте и порядке, царившем в доме. Мне казалось, что не хватает многих деталей и раньше я жил в совсем другой обстановке. Присев за стол, я погрузился в созерцание дождя за окнами. Прибитые листья хрена волочились по земле под порывами ветра, вишни и сливы поникли, как будто никогда уже не принесут плодов. Только сосны смотрели на меня свысока, храня какую-то важную тайну, и берёза молчаливо качала гривой.
В такой прострации, расстилаясь по столу, как мокрая трава, я просидел долго, до тех пор, пока дверь не распахнулась и не вошли люди в длинных плащах. Поначалу они показались мне призраками из кошмаров, и я даже слабо вскрикнул.
– Успокойся, сынок, – ласково сказала Матушка, откидывая капюшон.
С ней была Наташа, с розовыми щеками, блестящими глазами и симпатичными ямочками от улыбки. Она подбежала ко мне и чмокнула в лоб.
– Ох, наконец-то ты поправился, малыш! Может, тебе лучше полежать?
– Спасибо, я достаточно уже полежал.
– Ох, Мирослав, – вздохнула мать, – ну что за ирония. Ты был так болен. Чуть не похоронила тебя, сына своего родного. Единственного.
Мне было неловко, что моя красавица Наташа целует меня, я ведь был так убог и жалок.
– Ты знаешь, любимая, – вдруг сказал я, – мне почему-то кажется, что рядом с тобой должна быть собака.
Наташа вскрикнула, закрыла лицо руками и убежала в другую комнату.
Матушка присела рядом, взяла меня за руку и с материнским снисхождением посмотрела на меня, как на глупого ребёнка.
– Не говори больше об этом. У твоей невесты была горячо любимая собака. Только она погибла.
Я задумался о том, что почти ничего не помню.
– Скажи-ка, Матушка, а долго я болел?
– Да, сынок, долго. Около месяца был в бреду, а до этого ещё несколько лет.
– Что-то я не помню этих лет. Ну совсем. Только детство, отрочество…
– А юность тебе выпала тяжёлая… Ты был болен психически. Хорошо, нашёлся добрый человек, он тебя вытащил, можно сказать, с того света.
– Наташа? – догадался я.
– Нет-нет. Наташа, конечно, помогала. Ох, как она тебя любит! Помню, в моей молодости, когда я была ещё очень красивой и… Но не стоит об этом.
Матушка грустно и мечтательно посмотрела куда-то в облака.
– Так что за человек, Матушка?
– А… Хороший человек. Я тебе вечером его представлю. Но он-то часто тебя навещал. Мы вот клубнички набрали, поешь?
– Ну давай.
– В этом году хороший урожай клубники. И слив. А вот яблок мало уродилось.
Я вздрогнул и выронил клубничку, которую поднёс ко рту. Перед моим внутренним взором сверкнули квадратные белые стекла очков. Слова Матушки показались мне странно знакомыми, и я почему-то сказал:
– Один хрен растёт.
Матушка наклонилась и шутливо заглянула мне в глаза:
– Ты точно выздоровел, Мирослав?
До вечера я бродил по саду. Дождь перестал, но тучи не ушли, и ничто не предвещало солнца до следующего лета. В сарае я нашёл смутно знакомые ходули, но встать на них не смог, слишком слаб ещё был. Наташа из окошка смеялась надо мной:
– Ну, ты как маленький! Тебе уже скоро тридцать будет, а ты на ходули!
Там же, в сарае, я обнаружил чудесный полутораметровый топор, но и его у меня не было сил даже поднять, не то что взмахнуть им и ударить в стену. Я обошёл всё, и обстановка везде казалась мне чужой и непривычной, хотя и узнаваемой. Мне хотелось побыть одному, и мои женщины это понимали. Мать занималась в доме какими-то делами, Наташа читала книжку на веранде. Впрочем, я замечал, что они следят за мной, проверяют, всё ли со мной в порядке.
Когда стало темнеть, я присел на скамейку у стола под берёзой. Какая всё-таки огромная берёза, думал я, мне одному её не обхватить. В густых ветвях тихо шептал ветер, убаюкивая меня, и я полудремал сидя, исполненный чувством глубокого покоя. Мне казалось, что я бесконечно от чего-то устал. “Только не трогайте меня, я просто хочу покоя, хочу быть один”, – повторялось в моей голове.
Из оцепенения меня вывел скрип калитки. В кустах фиалок на тропинке появился полный человек в чёрном плаще. Уже по фигуре я узнал его, я видел его, когда болел, и сразу понял, что Матушка говорила именно о нем. Он подошёл ко мне и протянул руку.
– Яков Семёнович Гадес. Мы знакомы, но на всякий случай решил напомнить.
Я слабо ответил на его крепкое рукопожатие.
– Вы святой?
Он ничего не ответил, отошёл к берёзе и похлопал по могучему стволу.
– Старая уже, как думаешь, Мирослав? И вид портит. Надо будет спилить ее.
Вместе с Гадесом мы вернулись домой. Он принёс моей матери розу, ей было очень приятно, хотя она и сказала, что по своему статусу не может принимать такие знаки внимания. Розу поставили в вазу. Наташа накрыла стол для чаепития. Перед тем, как мы расселись, Матушка прочитала молитву. Я взял какую-то плюшку и заметил, что от слабости моя рука трясётся. Яков Семёнович увидел это:
– Ничего, Мирослав, скоро поправишься и окрепнешь, – и подмигнул Наташе.
– Она тебя быстро на ноги поставит. А?
Наташа заулыбалась, и щёчки в ямочках покраснели.
– Что вы имеете в виду, Яков Семёнович?
– Сама знаешь, – рассмеялся он и похлопал её по ляжке, но как-то по-отечески, не вызывая моей ревности.
Я задумался, стоит ли доверять отеческой ласке. Впрочем, Гадес казался мне очень добрым и хорошим человеком, и я доверчиво, по-собачьи заглянул ему в глаза, понимая, что это тот, кто помог мне, помогает и будет помогать.