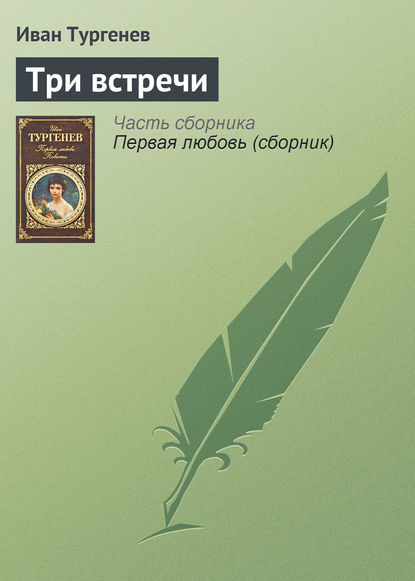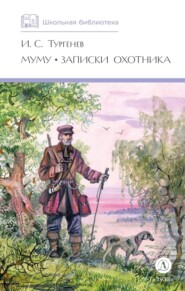По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три встречи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, видел.
– Так что ж ты его не поднял?
– Да так: не мои деньги, так и не поднял.
– Экой ты, братец! – возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять, – возьми, возьми на чай.
– Много благодарны, – отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбнувшись. – Не нужно; поживем и так. Много благодарны.
– Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! – возразил я с смущением.
– За что же? Не извольте беспокоиться – много благодарны за расположенье, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь – какой час выдет.
И он встал и протянул руку к калитке.
– Постой, постой, старик, – заговорил я почти с отчаянием, – какой ты, право, сегодня неразговорчивый… Скажи мне, по крайней мере, твоя барыня – встала она, что ли?
– Они встали.
– И… дома она?
– Нет, их дома нет-с.
– В гости выехала, что ли?
– Никак нет-с: в Москву уехала.
– Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была?
– Здесь.
– И ночевала здесь?
– Здесь ночевали-с.
– И недавно сюда приехала?
– Недавно.
– Так как же, братец?
– А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.
– В Москву!
Я с остолбенением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал…
И Лукьяныч глядел на меня… Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.
– И с сестрой уехала? – проговорил я наконец.
– С сестрицей.
– Так что никого теперь в доме нет?
– Никого…
«Этот старик меня обманывает, – сверкнуло у меня в голове. – Недаром он так лукаво ухмыляется».
– Послушай, Лукьяныч, – проговорил я вслух, – хочешь ты мне сделать одно одолжение?..
– Что такое вам угодно? – медленно проговорил он, видимо, начиная тяготиться моими расспросами.
– В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты показать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.
– То есть вы хотите комнаты посмотреть?
– Да, комнаты.
Лукьяныч помолчал.
– Извольте, – произнес он наконец. – Пожалуйте…
И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины… Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат, и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно… я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем нельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным – нежилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?»,[5 - «Молчать?» (фр.).] на другой я разобрал слово: «bonheur…».[6 - Счастье (фр.).] На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка… я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.
– Вот, – сказал он, протянув руку, – это вот спальня, а там, за нею, еще девичья, а то других покоев нет…
Мы пошли назад по коридору.
– А там что за комната? – спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.
– Это? – отвечал мне Лукьяныч глухим голосом. – Это так.
– Как так?
– Да так… Кладовая… – И он пошел было в переднюю.
– Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..
– Да что вам за охота, барин, право! – возразил Лукьяныч с неудовольствием. – Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая… кладовая, и больше ничего…
– Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик, – сказал я, хоть внутренне стыдился своей неприличной настойчивости. – Я вот, видишь ли, я желал бы… я хочу у себя в деревне точно такой дом…
Мне стало совестно: я не мог докончить начатой речи.
Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.
– Покажи, – проговорил я.